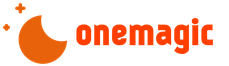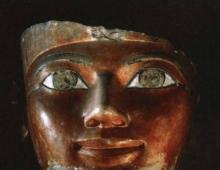Древняя Русь: язычество, похоронный обряд, культ предков - Похоронное бюро в Алматы и Казахстане. Три типа похорон у древних славян Обряд захоронения у древних славян
Далеко не все нынешние русские похоронные традиции связаны с православием. Многие из них возникли еще в далекую языческую эпоху.
Явь и Навь
Наши предки – - верили, что существуют Явь и Навь. Явью назывался материальный мир, а Навью – мир потусторонний. В первом мире обитали живые, во втором – мертвые. Считалось, что именно туда уходят души после смерти. Попасть в Навь можно было, перебравшись по Калинову мосту через реку Смородину. Впрочем, туда можно было перебраться и вплавь.В Древней славянской Руси усопших чаще кремировали. Считалось, что так душа скорее попадет на небо. В землю покойников зарывали только в степных районах, где отсутствовал лес, необходимый для сооружения погребальных костров. Если человек умирал в море, останки бросали в воду.
Подготовка к похоронам
Сразу после кончины славяне обмывали покойника и переодевали в чистую одежду, затем клали на лавку лицом к кумирам – изображениям языческих божеств (в христианскую эпоху их место занял «красный угол» с иконами). Тело укрывали белым холстом, а руки складывали на груди. Если в доме были зерцала (предшественники зеркал из меди или бронзы), их закрывали темной тканью, чтобы мертвец не забрал с собой на тот свет души других домочадцев. Пока усопший находился в доме, дверей не запирали, чтобы душа могла свободно входить и выходить – иначе, по поверью, она могла до трех лет оставаться привязанной к этому месту и беспокоить живых.Руки и ноги покойному связывали тонкими веревочками. Снимать их полагалось перед сожжением. К среднему пальцу правой руки привязывали медную проволоку, другой конец которой был опущен в сосуд, наполненный землей. Это делалось одновременно для того, чтобы поддержать связь с Матерью-Землей, и чтобы тело дольше сохранялось. Глаза усопшему закрывали медными или серебряными монетами – чтобы ни на кого не глядел и никого больше не забрал с собой. Кроме того, считалось, что эти монеты потом станут платой за переправу в царство мертвых. Возле лица клали зеркальце и легкое перышко.
Затем все родные и близкие выходили из комнаты и уступали место волхву, который три дня читал над покойником. На третий день родственники прощались с усопшим, и его выносили из жилища ногами вперед. Перед тем как возложить тело на костер, уже приготовленный из дров и хвороста, близкие целовали усопшего в чело.
Обряд захоронения
После того как останки обращались в прах, его обычно помещали в горшок или кувшин, аналог современной погребальной урны. В центре будущего ставили столб, на вершине которого находилась площадка с четырьмя столбами. Между ними и размещали домовину. Внизу под площадкой складывали различные вещи и утварь, который умерший «забирал» с собой в загробный мир. Если это был мужчина, то вместе с ним клали оружие, конскую сбрую. Если женщина – клали серпы, посуду и даже зерно.Сверху все накрывали погребальным платом и вручную засыпали землей, при этом каждый присутствующий должен был кинуть горсть земли. Наверху кургана помещали поминальный камень – то, что сегодня называется надгробием. Некоторые курганы были семейными: площадку под домовину в них делали большего размера, а также строили из бревен проход вовнутрь.
Поминальное пиршество – тризну – устраивали тут же, на кладбище. Кладбища у славян обычно размещались за рекой. Курганы располагали в шахматном порядке на расстоянии трех саженей друг от друга, так, чтобы на все падал солнечный свет, а тень от одного кургана на восходе и закате не падала на соседние. Это было связано с культом Ярилы – бога Солнца.
В редких случаях останки сжигали в лодке (ладье), которую пускали плыть по реке. Так поступали только с мертвецами из знатных родов. Кстати, по мнению историков, гроб символизирует ладью, в которой душа переправляется на тот свет.
Поминальные традиции
Душа в представлении наших предков являлась вполне материальной субстанцией: она могла есть, пить, двигаться. Поэтому еще в возник обычай «угощать» покойников. Для этого был установлен специальный «навий» день. В словаре В.И. Даля говорится: «Навь это день поминовения предков. В южной Руси понедельник, в средней и северной - вторник на Фоминой». В некоторых регионах в поминальные дни оставляли кушанья на столах, чтобы усопшие «подкрепились». В Витебской губернии клали на стол «для покойных» по ложке каждого блюда, что подавалось живым – это называлось «дзедоу». В Оленецком крае для умерших выставляли вино и пиво.
В эпоху христианства мертвые тела стали хоронить исключительно в земле, так как православная церковь не одобряла такой способ погребения: считается, что сожженные останки не подлежат воскрешению после Страшного Суда. После революции вновь стали осуществляться обряды кремации, но и сегодня верующие люди обычно отказываются от такой процедуры.
Почувствовав приближение смерти, старик просил сыновей вывести его в поле. Там он кланялся на все четыре стороны: "Мать сырая Земля, прости и прими! И ты, вольный свет-батюшка, прости, коли обидел..." Человек, готовящийся принять смерть, составлял завещание, приводил в порядок свои дела, отдавал долги, распределял состояние. Перед смертью делал какие-нибудь добрые дела: раздавал милостыню, выделял деньги на строительство храмов или дарил какие-то суммы богоугодным заведениям - больницам, приютам и пр.
Потом ложился на лавку в святом углу, и сыновья разбирали над ним земляную крышу избы, чтобы легче вылетела душа, чтобы не мучила тело, а также - чтобы не вздумала остаться в доме, беспокоить живых.
Издавна принято было считать, что умереть среди своего семейства ("в своей постели"), прожив долгую, достойную жизнь, - это небесная благодать для человека. И наши предки верили, что если человек умирал быстро, легко, то душа его непременно попадала в рай. Если же тяжело мучился перед смертью, значит грехи его велики и не миновать ему ада. Считалось также, что тяжело умирают колдуны и ведьмы, если не имеют возможности передать кому-то свои знания.
Чувствуя приближение смерти, люди призывали к себе священника для исповеди. После исповеди прощались с родными, давали наказы, благословляли, "приказывали долго жить".
Среди приверженцев старой веры, напротив, считалось тяжким грехом исповедоваться у православного священника. Покаяние возможно было приносить только перед своим наставником. Случалось, что наиболее убежденные староверы уходили перед смертью из деревни и умирали где-нибудь в полном одиночестве, зачастую уморив себя голодом.
В старину в деревнях считалось, что умирать легче всего на полу, куда стелили солому, а позже - полотно. Собравшиеся вокруг родственники молча соболезновали умирающему. Громко разговаривать возле него было нельзя. Если человек мучился, старались помочь душе отлететь, открывали дверь, окно, печную трубу, ломали конек на крыше или просто поднимали верхнюю слегу на крыше дома.
Когда наступала смерть, родственники начинали громко причитать и плакать. Считалось, только что отлетевшая от тела душа находится еще в доме, рядом. Если покойный будет оплакан ("обвыт") надлежащим образом, то и душе его будет покойнее и он не станет позже беспокоить живых в видениях, думах и наяву.
Ранняя форма погребений древних славян - погребение трупа в скрюченном виде, то есть в положении зародыша, - связана с идеей реинкарнации, перевоплощения умершего, его второго рождения на земле, перехода его жизненной силы (души) в одно из живых существ.
На рубеже бронзового и железного веков возникает способ погребения умерших уже в распрямленном виде.
Затем появилась кремация - сожжение трупа на погребальном костре. Этот ритуал также был связан с представлением о неистребимости жизненной силы. Новым было представление о местожительстве невидимых душ - небе, куда души попадали с дымом погребального костра. Прах сожженного покойника хоронили в земле, помещая его в урны-горшки или просто в ямы. Первоначально над каждой могилой строилось надмогильное сооружение в форме жилого дома, домовина. Именно отсюда берет начало обычай (в частности, у старообрядцев) делать над могильным крестом навершие, похожее на двускатную крышу.
В середине первого тысячелетия обряд захоронения погребальных урн сменился захоронением в курганах - "могылах".
После крещения Руси в X веке русские переходят к захоронению умерших в земле в гробах из досок или выдолбленных колодах, которые также получили название домовин.
Языческие обычаи изживались медленно. Только с XII века в славянских деревенских могилах появляются христианские символы (крестики, иконки). Разведение ритуальных костров на кладбищах, символизирующих сожжение трупа, сохранялось кое-где вплоть до XIX века, а вложение в гроб предметов, которые якобы пригодятся покойному на том свете, случается и до сих пор.
Православные похороны не несут отпечатка трагедии случившегося. Наоборот, это в большой степени радость от надежды на то, что душа умершего благочестивого человека попадет в рай, предстанет перед Богом и будет молиться там за оставшихся на земле.
В житейском же представлении смерть, безвозвратная потеря близкого и любимого человека, всегда и вполне естественно является горем, требующим своего выражения в плаче и причитаниях. В старину для придания похоронам торжественно-печальною характера существовала даже профессия плакальщиц.
Как долг первой необходимости рассматривалось присутствие в момент смерти у постели больного близких родственников. По народным поверьям, при последнем вздохе человека - испускании духа - душа расстается с телом и происходит борьба за душу между нечистой силой и ангелом, посланным Богом за душой умирающего. Предсмертные страдания объяснялись не тяжестью болезни, а тем, что умирающего в последние минуты мучает нечистая сила (черт, дьявол), она будто бы не отдает душу ангелу. Стараясь облегчить путь души к Богу, вкладывали в руку умирающему свечу, кадили вокруг него ладаном.
Хорошей считалась смерть на Пасху, в день Христова воскресения, когда, по поверьям, открыты райские двери по аналогии с царскими вратами в храме. Легкая смерть расценивалась в народе как награда за благочестивую жизнь, трудная - как удел грешников.
В народных обычаях, связанных с похоронами, можно выделить три основных этапа.
Предпогребальные обрядовые действия: подготовка тела умершего к похоронам, омовение, одевание, положение в гроб, ночные бдения у гроба покойного.
Погребальные обряды: вынос тела, отпевание в церкви, дорога на кладбище, прощание с умершим у могилы, погребение гроба с телом в могилу, возвращение родных и близких обратно в дом умершего.
Поминки: после похорон в доме умершего на третий, девятый, двадцатый, сороковой дни, полгода, годовщину после смерти, с заказыванием поминальных треб в церкви, с трапезами и домашними молениями по умершим.
Многие предпогребальные действия имеют древнее ритуальное происхождение. Смерть мыслилась как дорога в загробный мир, а омовение, обряжение покойного и другие действия по подготовке его к похоронам - сборами в дальнюю дорогу.
![]()
Омовение имело не только гигиеническую цель, но рассматривалось и как очистительный обряд. По церковному вероучению, умерший должен уйти к Господу с чистой душой и чистым телом. Омовение совершала особая профессиональная категория людей - смывальщики.
Смывальщики. Обмывальщицы, мытницы, умывальники - везде их называют по-разному.
Обмывальщиками чаще становились старые девы и старые вдовцы, уже не "имеющие греха", то есть интимных отношений с людьми противоположного пола. Пожилой возраст обмывальщиков как бы подчеркивал, что умерший в глазах живых становится не только представителем "того света", но теперь уже и предком, принадлежностью прошлого. Мужчину обмывали мужчины, женщину - женщины. Обмыть мертвого всегда считалось богоугодным делом, способствующим прощению грехов.
Девицы, занимавшиеся "собиранием" умерших и чтением над ними Псалтири, носили темную одежду. За труд они получали белье и носильные вещи умершего.
Если не было профессиональных смывальщиков, омовение умерших производили люди, не состоявшие в родстве с умершим. Правда, в некоторых деревнях было принято обмывать тело родственникам того же пола, что и умерший.
Согласно церковному поучению, матери не полагалось обмывать своего умершего ребенка, так как она обязательно будет его оплакивать, а это осуждалось как отступление от веры в бессмертие души. По христианскому вероучению, ребёнка ожидает райская жизнь, и поэтому его смерть не должна оплакиваться. В народе считали, что материнская слеза "жжет ребенка".
В некоторых селах умершего раздевали перед обмыванием, раздирая на нем одежду вдоль тела, а не снимая через голову. При обмывании читали молитву.
Процедура омовения носила ритуальный характер, магическую направленность. Она совершалась на полу у порога избы. Покойника клали на солому ногами к печи.
Обмыть старались очень быстро. Обмывали обычно три человека: "один обмывает, другой посудку держит, третий поддерживает тело". Обмывание, собственно, было похоже на обтирание покойника: тряпочкой, куделькой, ватой или просто тыльной стороной руки водили по умершему сверху вниз. Смазывали глаза, нос, уши, рот, грудь, а также "во всех местах, где суставчики". Обмывали два-три раза теплой водой с мылом из глиняного, обычно нового, горшка.
На атрибуты омовения - горшок, воду, мыло, гребень - переносились свойства мертвеца, его мертвящая сила. От них старались скорее избавиться. Вода, которой мыли покойника, называлась мертвой, ее выливали в угол двора, туда, где нет растений, где не ходят люди, чтобы здоровый человек не мог на нее наступить. Таким же образом поступали с водой, которой мыли посуду после поминок. Глиняные горшки, использующиеся для омовения, выносили в овраг, на край поля, на перекресток дорог, где, как правило, стоял крест, столб, часовня (там их разбивали или просто оставляли). Солому, на которой обмывали, сжигали или бросали в лесу под елочкой, когда везли хоронить. Все это делалось с целью предотвратить возвращение покойника. Эти места считались в народе страшными.
Обмывальщикам после совершения ритуала обязательно нужно было вымыться в бане и переодеться.
Предметами омовения колдуны умело пользовались: "мертвую" воду они использовали для порчи молодоженов. Плотники заколачивали в дверной косяк при постройке дома кусок савана, когда желали беды неугодному им хозяину. Мыло, употреблявшееся для омовения покойника, в домашней медицине применяли с иной целью - подавить, умерить нежелательные явления. Жены подавали его, например, для умывания злым мужьям, чтобы их "злоба замирала", а девушки мыли им руки, чтоб кожа на них не дрябла.
Существовало поверье, что если нечистая сила сумеет подобраться к покойному, то она выкручивает ему руки и ноги. Поэтому староверы, например, перевязывали суставы умершим суровыми нитками, получался крест, и нечистая сила отступала.
Волосы покойному расчесывали гребнем, а иногда щепочкой от гроба. Затем клали их в гроб.

В средневековой России хоронили, как правило, в белом. Это объяснялось не только влиянием христианства, которое связывало этот цвет с духовной, младенческой чистотой христианской души, - душа уходит к Богу такой, какой пришла на землю при рождении. Белый цвет одежды умершего - это натуральный цвет домотканого холста.
В начале XVII века мертвых хоронили в одежде, в которой они ходили: в кафтане, штанах, сапогах, шляпе и другом платье. Если умирал больной, его брали с постели, клали на лавку, омывали тщательно и надевали на него чистую сорочку, полотняные штаны, новые красные сапоги. Обвивали его тело в белое полотно, сделанное в виде рубашки с рукавами, складывали ему крестообразно руки на груди, сшивали полотно у изголовья, также на руках и ногах. И клали его в гроб на носилки. Если это был богатый человек или дворянин, носилки покрывали бархатом или дорогим сукном. Если же это человек не зажиточный или бедняк, носилки покрывали его собственным кафтаном из холста или другой дешевой материи. Так и несли его на кладбище.
Женщин было принято хоронить в платочках: молодых - в светлых, пожилых - в темных. Был обычай одевать девушку, умершую в расцвете молодости, в подвенечный наряд, На похоронах умершей девушки даже имитировали свадебный обряд, пели свадебные и подвенечные песни. Как девушке, так и парню на безымянный палец правой руки надевали обручальное кольцо, между тем как женатому человеку и замужней женщине кольца не надевали.
Способ изготовления погребальной одежды подчеркивал ее предназначенность преисподнему миру. Одежда была как бы не настоящей, а лишь ее заменой, не сшитой, а лишь наметанной. Ее шили обязательно на руках, а не на машинке, нитку закрепляли, держали иголку от себя вперед; иначе покойник опять придет за кем-нибудь в свою семью. Имитированной была и обувь покойника: в кожаной обуви, как правило, не хоронили, а заменяли ее матерчатой. Когда надевали сапоги, железные гвозди из них выдергивали. Онучи, надевавшиеся с лаптями, на ногах обвязывали так, чтобы крест, образуемый шнурками, приходился спереди, а не сзади, как у живых. Таким образом придавалось как бы обратное направление движению умершего, чтобы он не мог вернуться назад в дом.
Когда-то постель умершего и одежду, в которой он умер, клали под куриный насест и держали их там в течение шести недель (пока душа умершего, по поверью, находится дома и нуждается в одежде).
Сейчас обычно вещи, принадлежащие покойному, сжигают или закапывают. А хоронить стараются в новой, еще не носившейся одежде, чтобы душа явилась на тот свет чистой. Многие пожилые люди заранее готовят себе "смертный наряд". Хотя, бывает, что хоронят и в старом - мужчин обычно в темном костюме, рубашке с галстуком, женщин - в платье или юбке с кофтой, как правило, светлых тонов. В качестве обуви обычно используют специальные тапочки (они, как и покрывало, имитирующее саван, входят в комплект похоронных принадлежностей ритуальных бюро).
В старину обмытый и обряженный покойник один или два дня лежал на лавке под образами. Тело клали в гроб только перед выносом из дома. В это время приходили прощаться с ним дальние родственники, знакомые, соседи. Для чтения псалтыря приглашались старушки-читалки, которые, помимо псалмов, исполняли духовные стихи.
Покойного, как и умирающего, ни в коем случае нельзя было оставлять одного. Считалось, что нужно стеречь его от нечистой силы, "от бесов".
При изготовлении гроба полагалось класть в него образовавшиеся стружки. Щепу потом вывозили подальше за село и выбрасывали, а не сжигали, чтобы покойнику не было жарко на том свете. Предпочитали делать гроб из кедра, сосны, только не из осины. В местностях, богатых лесом, старались делать гробы, выдолбленные из ствола дерева.
Гроб соответственно рассматривался как последний дом умершего. Иногда даже делали в гробу застекленные оконца.
Перед тем как положить покойника, гроб обязательно окуривали дымом ладана из кадила. Гробы устилались изнутри чем-нибудь мягким: мягкая обивка, покрытая белым материалом, подушка, покрывало. Дно гроба устилали также листьями березового веника, причем "чистого", т.е. сделанного не в воскресенье. Такими же листьями набивали подушечку под голову. Некоторые пожилые женщины собирают при жизни собственные волосы, чтобы набить ими подушку.

Прежде при положении умершего в гроб принимали меры магической предосторожности. Тело брали не голыми руками, а надевали рукавицы. Избу постоянно окуривали ладаном, сор из избы не выносили, а подметали под гроб, направляя в сторону умершего. Пока готовили гроб, омытого покойника клали на лавку, застеленную соломой, в переднем углу избы так, чтобы его лицо было обращено к иконам. В избе соблюдали тишину и сдержанность.
Согласно правилам православного захоронения, положено класть в гроб мирянину, помимо нательного крестика, образок, венчик на лоб и "рукописание" - написанную или напечатанную молитву, отпускающую грехи, которую вкладывают в правую руку покойника. Затем покойника покрывают белым покрывалом. Гроб разворачивают по солнышку и снова ставят так, чтобы умерший был обращен к иконам ногами. На гроб ставят свечи.
Существует обычай класть в гроб вещи, которые могут якобы пригодиться умершему на том свете. В древности иногда в рот мертвецу клали несколько мелких монет, как будто для издержек в дальней дороге на тот свет, а к гробу привешивали кафтан покойника.
В знак траура в доме занавешивают зеркала, останавливают часы; из помещения, где стоит гроб с телом умершего, выносят телевизор.
За 15-20 минут до выноса гроба в помещении остаются для прощания с умершим только родные и близкие.
Хотя теперь в городе чаще всего стараются в день смерти перевезти усопшего в морг, в православных семьях в небольших городах и деревнях, где нет моргов, сохраняется традиция ночного бдения около покойника.
Если не приглашается священник, псалтырь или другие священные книги читают верующие миряне. Но часто посиделки старушек у гроба проходят в самых обычных воспоминаниях или беседах.
Сразу после смерти стараются поставить на полочку к иконам или на окно стакан воды, накрытый куском хлеба. На поминальном обеде подобным образом оставляют рюмку водки, накрытую куском хлеба, и иногда этот символический прибор ставится у символического места покойного за столом. Наиболее типичное объяснение этому - "душа находится до шести недель дома".
В изголовье покойного зажигают свечи, их прикрепляют к углам гроба, ставят в стакан на столе, а перед иконами - лампады.
Раньше в зимнее время не спешили хоронить и ставили покойников в церковь, где духовенство служило каждодневную литургию и панихиды, и только на восьмой день предавали тело земле.
![]()
Бытует мнение" что раньше 12 часов и позже захода солнца выносить покойного из дому нельзя. Существует обычай выносить тело из дому ногами вперед, стараясь не задеть за порог и косяки двери, чтобы предотвратить возвращение покойника по своему следу.
Старались сразу же после покойника занять место - на стол или стулья, на которых в доме стоял гроб, после выноса покойного сесть, а потом эту мебель на некоторое время перевернуть кверху ножками.
Существовал и такой обычай: один из родственников три раза обходил вокруг гроба стопором в руках, держа его лезвием вперед, при последнем обходе ударял обухом по гробу. Иногда при выносе покойника клали топор на порог.
![]()
Топору - оружию Громовержца - с глубокой древности приписывалась чудесная сила. Топором ударяли по лавке, на которой кто-нибудь умер: полагали, что тем самым будет "подсечена" и изгнана смерть. Топор крест-накрест перебрасывали через скотину, чтобы она не болела и хорошо плодилась. Топором чертили над больным солнечный крест, призывая на помощь сразу двоих братьев-богов. А на лезвиях топоров часто выбивали символические изображения солнца и грома. Подобный топор, всаженный в двойной косяк, был неодолимым препятствием для нечисти, стремящейся проникнуть в человеческое жилье.
Многие народы, в том числе и славяне, старались выносить умершего не через входную дверь, служащую живым, а через окно или специально проделанное отверстие, чтобы обмануть покойника, чтобы "запутать его след".
В старину, как только покойника выносили из дома, старались вымыть одной водой всю избу: стены, лавки, даже всю посуду. Теперь моют только пол.
При выносе тела умершего из дома было принято громко плакать. Над гробом причитали не только близкие родственники покойного, но и соседи. Если родственницы не плакали, соседи брали под сомнение чувство привязанности родных к умершему.
Еще древнерусская церковь наложила запрет на народные вопли и плачи. Надгробные плачи расценивались как проявление языческих представлений об участи души за гробом, отсутствие у народа христианской веры в бессмертие души. Матери не должны были плакать по умершим детям. Однако церковный запрет в повседневной жизни не соблюдался. Петр I издал даже специальный указ о воспрещении плача на похоронах, который также не возымел действия.
Похоронное шествие возглавлял человек, несущий распятие или икону, обрамленную рушником. Если умирал мужчина, впереди похоронной процессии шел с иконой мужчина, если женщина, то икону несла женщина. Перед процессией разбрасывали еловые или пихтовые ветки, а летом и цветы.
Затем следовали один или два человека с крышкой гроба на голове, за ними - духовенство. Две-три пары мужчин несли гроб, за которым шли близкие родственники. Траурную процессию замыкали соседи, знакомые, любопытные.
В русских деревнях еще в прошлом веке из суеверных соображений старались переносить гроб в рукавицах, на полотенцах, жердях, носилках.
В некоторых местах старались доставить мертвеца к месту захоронения на санях, причем даже летом.
![]()
Отсюда пошло выражение "сидя на санях", что означает "в конце жизни". Владимир Мономах так начинал свое знаменитое "Поучение": "Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться..."
Перевернутые сани часто служили намогильным памятником. Но иногда сани сжигали либо оставляли до сорокового дня лежащими вверх полозьями.
При выносе покойника из дома производился обряд "первой встречи" - человеку, который первый встретил на пути похоронную процессию, вручали краюху хлеба, завернутую в полотенце. Подарок служил напоминанием, чтобы первый встречный помолился за умершего, а умерший, в свою очередь, первым встретил на том свете принявшего хлеб.
По дороге до храма и от храма до кладбища разбрасывали зерно для кормления птиц.
Похоронной процессии, по церковному уставу, полагалось останавливаться только в церкви и возле кладбища. Но, как правило, она останавливалась в наиболее памятных для покойного местах села, около дома умершего соседа, на перекрестках дорог, у крестов, которые в некоторых местностях так и назывались - покойничьими. Здесь часть провожающих покидала процессию, далее следовали преимущественно родственники.
На современных похоронах обычно не разрешают детям (сыновьям) нести гроб с телом родителей и закапывать могилу.
Состав современного траурного шествия обычно таков: вначале несут венки, потом крышку гроба узкой частью вперед, гроб с покойником. За гробом первыми идут родные, близкие, затем все провожающие.

В деревнях православные хоронили своих близких на приходских кладбищах. Каждая раскольничья деревня заводила свое собственное кладбище. Церковь всегда боролась с таким разделением. Но староверы находили всевозможные способы, чтобы разделить территорию с православными и не допустить на свое кладбище "щепотников, удавленников, опойц, некрещеных". Если не удавалось устроить отдельно кладбище, отводили на общей территории специальный участок, который тщательно огораживался.
Для городских жителей место под кладбище отводилось за городом, но в селах и деревнях эти кладбища устраивались при храмах.
Утопленников и самоубийц не хоронили на кладбищах. Было убеждение, что если на кладбище похоронить утопленника или удавленника (самоубийцу), то весь край постигает бедствие. Поэтому в старину народ, приведенный в волнение несчастьем, как, например, неурожаем, мором, эпидемией, выгребал мертвецов из могилы.
Умерших внезапно на улице, убитых в дороге хоронили в убогом доме. Убогие дома были не только в Москве, но и в других городах. В них также хоронили отверженных, которых считали недостойными кладбища. Воров, разбойников, казненных, как и самоубийц, хоронили в поле или в лесу.
![]()
Убогим домом, убожницей или богадельней, называли приют для калек, а также скудельню, куда свозили тела погибших странников, утопленников, убитых в дороге. Трупы клали в общую могилу, совершая молитву над ней в Дмитриеву субботу (последнюю субботу перед Масленицей).
В конце XVI века в зимнее время славяне не хоронили покойников, а ставили их в доме, выстроенном в предместье или за городом, который называли Божедом, или Божий дом. Там трупы накладывались друг на друга, как дрова в лесу, и от мороза становились твердыми, как камень. Весной, когда лед растает, родственники покойника предавали его тело земле.

![]()
Копальщики, вырыв могилу, уже не отходили от нее, стерегли "от бесов". Даже зимой жгли костер и ждали, когда подойдет процессия. Иногда в могилу клали крестом деревяшки, чтобы бес не прикоснулся к гробу.
Могилы на кладбищах располагали так, чтобы покойный "смотрел" на восток.т.е. лежал ногами к востоку. Крест ставили в ноги.
![]()
Обряд погребения совершался до захода солнца, когда оно находится еще высоко, чтобы "заходящее солнце могло захватить с собой умершего".
Внутри могилы кадили. Затем закрывали гроб, у православных заколачивали гвоздями, у старообрядцев часто перевязывали ветками черемухи или лыковыми веревками. Гроб опускали в могилу на полотенцах или веревках. В прошлом веке повсеместно клали на дно могилы полешки и на них ставили гроб. В начале этого века появился обычай делать над гробом настил из досок, "полати", а потом уже засыпать землей.
Также в могилу вместе с гробом опускались церковные свечи, горевшие во время отпевания.
Жена или близкий родственник должны были плакать и причитать; а плакальщицы всем хором тоже вторить, причитая. Священник вкладывал в руки покойного отпустительную грамоту.
Близкие и родственники в последний раз целовали умершего, провожающие бросали в могилу по горсти земли с пожеланиями: "Пусть земля тебе будет пухом".
Кое-где бросали в могилу мелкие деньги якобы для того, чтобы выкупить место на кладбище для умершего. Либо для того, чтобы умерший мог купить себе место на том свете.
Многие ритуалы погребения умершего сохранились и поныне. До сих пор порой в могилу бросают "слезовой" платочек. После того как могила засыпана, на надмогильном холме устанавливают венки, в центре - цветы. Иногда сразу ставят крест или временный обелиск, памятную доску с фамилией, именем, датой рождения и смерти.
Считается за правило не устанавливать постоянный памятник на могиле ранее, чем через год после смерти.
![]()
Раньше после опущения гроба в могилу все целовали образа, потом ели кутью, непременно каждый в три приема, начиная с близких родственников.
Сейчас после опущения гроба в могилу тоже следует угощение кладбищенских рабочих-копателей, краткая поминальная трапеза на погосте с выпивкой "за помин души", с кутьей, блинами, с разбрасыванием остатков пищи на могиле для птиц (душ умерших).
![]()
Особым способом поминовения души была тайная, или потаенная, милостыня. Она обязывала соседей молиться за усопшего, при этом молящиеся принимали на себя часть грехов умершего. При этом родственники умершего сорок дней раскладывали по окнам, крыльцам беднейших соседей (бобылок, стариков и т.п.) подаяние: хлебцы, блины, яйца, коробки спичек, иногда более крупные вещи - платки, куски ткани и др. Как и все поминки были жертвой, так и милостыня была жертвенной пищей.
Помимо тайной милостыни, существовала открытая милостыня - "в знак памяти" - раздача пирогов, печенья, сладостей нищим и детям у ворот кладбища. При отпевании также раздавали присутствующим по калачу и зажженной свече. Во многих местах каждому участнику поминок вручали по новой деревянной ложке, чтобы при еде этой ложкой вспоминали умершего. Для спасения грешной души делали пожертвование на новый колокол, чтобы он "вызвонил" погибшую душу из ада, или отдавали соседям петуха, чтобы он пел за грехи покойника.
Существовал обычай подавать в день похорон милостыню "через гроб". Когда приходили прощаться в дом, то каждому подавали что-нибудь из одежды. Так, если умирала женщина, раздавали сорок подшальников или куски материи на "запон" (фартук); если умирал мужчина - носовые платки и куски материи на рубашку. Если хоронили девушку, раздавали всем ее подругам ситцевые головные платки.
Обязательно подавали обмывальщикам. В некоторых деревнях, например, обмывальщице отдавали "через гроб" курицу. У коми-пермяков милостыню "через гроб" получали все, кто каким-либо образом участвовал в похоронах и соприкасался с покойным. Те, кто молился и отпевал покойного, получали деньги; тем, кто нес гроб, отдавали полотенца, полотенца же отдавали копальщикам; обмывальщикам дарили одежду умершего, причем на поминки им полагалось прийти в этой одежде.
Участвующим в похоронной процессии раздавали специально выпеченный хлеб, лепешки, пряники, детям - конфеты.
Набор предметов, составляющих милостыню для первого встречного, был самый разнообразный: хлеб, нитки, иголка, иногда деньги, кружка, ложка. В других местах было принято давать кусок рыбного пирога, по початой катушке белых и черных ниток, иголку, луковку, столовую ложку и головной платок. Иногда просто подавался мешочек, где лежал каравай хлеба.
Сейчас, помимо раздачи милостыни кладбищенским и церковным нищим, обычно раздают на похоронах некоторым близким платки. Платки эти полагается бережно хранить.
Пока происходили похороны, оставшиеся дома родственники, а иногда и соседи топили баню. Вернувшись с кладбища, люди сначала шли в баню, переодевались и только после этого садились за стол.
Чтобы не бояться потом покойного, у него ощупывали ноги или пятки; приносили домой с могилы немного земли; придя с похорон, открывали заслонку печи и смотрели в печь. По этой же причине в некоторых деревнях вдовы или другие родственники старались перепрыгнуть через уже засыпанную могилу.
Существовал и такой древний обычай, как разбрасывание похоронной процессией еловых или пихтовых веток. Так в старину старались завалить дорожку покойнику, чтобы не приходил, не тревожил. А также ставили тяжелые надгробия на могилы - тоже для того, чтобы мертвецы не смогли выбраться наружу.
Царское погребение совершалось через шесть недель после смерти, и тело ставилось в домовой церкви в гроб. Крестовые дьяки денно и нощно читали над ним псалтырь и попеременно дневали над усопшим бояре, окольничные, стольники. Между тем по всему государству посылались гонцы, которые во все монастыри и церкви возили деньги для служения панихид, в праздники при служении панихиды ставили кутью. Эти панихиды служились в течение шести недель ежедневно, исключая воскресенье.
В сороковой день кончины совершалось погребение царственной особы. Отовсюду стекались в Москву духовные власти, архимандриты и игумены.
В погребальной процессии впереди шло духовенство, архиереи и патриархи шли сзади духовенства, за духовными следовали светские сановники, бояре и окольничьи, за ними - царское семейство, а за ним боярыни.
Множество народа толпилось за гробом, без чинов и различного достоинства. Прощания перед опусканием в могилу не было.
Опустив тело в могилу, гроб не засыпали землей, а закрывали каменной доской. Пышность и издержки на погребение соразмерялись со значением усопшей особы. Так, погребение царя производилось великолепнее, чем царевичей, а погребение царевичей - великолепнее погребения царевен.

Члены семьи умершего должны были носить траурную одежду - синее или черное платье, и непременно ветхое, а не новое. Во время траура стыдно было ходить опрятным, как будто это было неуважение к памяти покойного. Мужчины надевают темный костюм только для участия в погребальном ритуале, а в последующем не соблюдают внешних признаков траура.
В течение траура вдова не должна была выходить замуж, вдовец - жениться, а взрослые дети - вступать в брак. Вдовцу хороший тон предписывал носить траур наполовину более короткий срок, чем вдове. У него траур продолжался полгода, после чего овдовевший мужчина мог жениться, и никто не осуждал его в этом случае.
Траур предполагал также отказ от развлечений, плясок, песен. Он длился от шести недель до года, "тужение" по случаю потери кормильца хозяйки держался всегда дольше, чем траур по старикам.
И сейчас соблюдают траур: носят темное платье, черный платок до 40 дней, часто посещают кладбище, не участвуют в развлечениях и светских праздниках и т.п.
Год и более носят темные платья матери, потерявшие взрослых, безвременно погибших детей. До одного года иногда соблюдают траур также и вдовы.
Траур по родителям было принято носить в течение года, а именно: полгода - глубокий, три месяца - обыкновенный и три месяца - полутраур. Дочери, похоронившие престарелых родителей, сокращают срок ношения траурной одежды до шести недель, а то и до одной недели.
По бабушке и дедушке траур носился всего полгода: три месяца - глубокий и три - полутраур. По дяде и тетушке - три месяца, по брату и сестре - шесть месяцев.

Со дня смерти ставили на окно чашку с водой и вешали рядом полотенце, которое находилось там в течение сорока дней. Оно предназначалось для души умершего, которая, по поверьям, сорок дней ходит по своим местам и, прилетая к дому, утирает полотенцем свое лицо.
Ставили к иконам стакан с водой, накрытый ломтем хлеба, а иногда и стопку водки, если умирал мужчина. Иногда оставляли на ночь на столе соль и хлеб и меняли его на свежий в течение сорока дней. Сорок дней не мели в ограде и во дворе. В некоторых деревнях, устраивая "сорочины", ставили на стол отдельный столовый прибор для души покойного - чашку, ложку, кружку - и больше уже им не пользовались.
Традиционно в России похороны всегда завершались поминками, поминальным обедом.
В XIX веке поминание было семейным обрядом, собиравшим в основном родственников и близких. Почитание мертвых носило домашний характер, но местами поддерживалась идущая из глубины веков традиция, что на поминки может прийти любой человек. В качестве почетных гостей приглашали духовенство.
Родственники умершего заказывали в церкви заупокойную службу (обедню) с поминанием усопшего в продолжение шести недель после смерти - сорокоуст. (Или заказывали сорокоуст читальщику, который в течение сорока дней на дому умершего читал канон) По окончании сорокоуста его можно заказать вновь, и так делать постоянно.
Существуют и длительные сроки поминовения - полгода, год. Некоторые монастыри принимают записки на вечное (пока стоит обитель) поминовение.
Во все памятные дни следует кому-либо из родственников прийти в храм к началу службы; подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. После литургии нужно отслужить панихиду.
Самый простой, но весьма действенный вид жертвы за усопшего - свечка, которая ставится за его упокоение.
Поминальными днями считались: день похорон, третий и шестой дни после смерти - редко, девятый и двадцатый - не всегда, сороковой - обязательно. Далее отмечали полугодовину, годовину, а затем - уже в рамках календарной обрядности - следовали родительские дни.
Чаще всего поминали три раза. Считалось, что троекратное поминовение совпадает с переменами, какие испытывает тело в гробу: в третий день изменяется его образ, в девятый распадается тело, в сороковой истлевает сердце.
Это троекратное поминовение совпадает и с верованием о путешествии души на тот свет: в третий день ангел Господень приводит душу на поклонение Богу. Если в этот третий день совершаются приношения памяти усопшего в церкви, то душа получает утешение в скорби. С тех пор начинаются путешествия ее с ангелом, который показывает ей блаженство рая и муки ада.
В девятый день душа, сохраняя еще земные привязанности, слетает то к дому, где жила с телом, то к гробу, где лежит тело, в котором была заключена; душа добродетельная посещает место, где она имела обычай делать правду. Тогда грешной душе ангел указывает, в чем она согрешила, и ей необходима для ободрения молитва церкви.
В сороковой день ангел приводит душу снова к Богу, и тогда ей назначается место по заслугам.
Согласно народному поверью, в течение сорока дней душа умершего находится на земле, Бог не определяет ее ни в ад, ни в рай, ангелы носят душу умершего по тем местам, где покойник грешил, и душа его замаливает грехи. На сороковой день совершается Божий суд и душа покидает землю окончательно. В этот день душа умершего является в свой дом на целые сутки и уходит лишь после так называемого отпуска души, или проводин. Если проводины не устроить, то покойник будет мучиться.
К сороковому дню прихода души умершего заранее готовились: мыли дом, с вечера застилали постель белой простыней и одеялом. К постели никто не мог прикасаться, она предназначалась исключительно для покойника. С утра готовили обильный обед, на котором было много вина. К полудню накрывали стол, собирались родные и знакомые. Приглашенный священник служил литию. За столом он занимал главное место, с правой стороны от него оставляли пустое место для умершего. На этом месте под салфеткой ставили тарелку, рюмку с вином, водкой, клали хлеб. Кланяясь этому месту, хозяева как бы обращались к незримому покойнику: "Кушай-ка, родименький". После обеда возглашалась "вечная память" и начиналось прощание с умершим, сопровождаемое плачем. Взоры родственников обращались в сторону церкви и кладбища, так как считалось, что, прежде чем уйти навсегда, покойник прощается со своей могилой.
На поминки приглашали родственников, близких членов семьи.
Раньше представители всех классов в сороковой день после смерти поминали умерших так. Домашние нанимали духовных лиц читать псалтырь по усопшим. У других это чтение происходило в двух местах одновременно: в доме, где умер покойник, и на могиле. На могиле для этого устраивался деревянный голбец, покрытый сверху рогожей, там стоял образ, и каждое утро при зажженной свече монах или церковный дьячок читал псалтырь.
Пасха и Троица. Сейчас часто посещают могилы умерших в православные праздники - Пасху и Троицу. На могилах (на тарелках, на бумаге) кладут приношения - несколько крашеных яиц, кусок кулича, яблоко, конфеты или раскрошенный кулич, очищенные яйца. Иногда на столике у могилы оставляют пшено, несколько штук печенья. И даже стаканчик спиртного для покойника либо стаканчик водки выливается на могилу.
Для поминовения умерших церковью установлены специальные дни.
Это Дмитровская суббота, последняя суббота перед Масленицей, вторник на Фоминой неделе (радуница, или радоница), суббота перед Троицыным днем (родительская суббота), Троицын день.
У коми-пермяков общие поминки устраивались также в Петров день (12 июля), накануне Покрова (14 октября) и осенней Казанской (4 ноября).
Во многих районах России принято было ходить на кладбище также и на Пасху.
Поминальным днем всегда считался и Семик - четверг перед Троицыным днем.
Вместе с молитвами об усопших отправлялись поминальные обеды. Таких было по желанию родственников и семейных не менее двух и не более четырех: в 3-й, 9-й и 12-й и, наконец, очистительный в 40-й день, или сорочины; в этот же день снимался траур.
Поминальный обед начинался с молитвы. Если народу на поминках было много и ставили несколько столов, то за первый, "главный", стол сажали тех, кто молился на кладбище, обмывальщиков, копальщиков и самых близких родственников. Сначала все должны были попробовать кутью, приготовленную из пшеницы с медом, позднее ее стали готовить из риса. Кутью нужно было взять ложкой три раза.
У нестарообрядцев соблюдалась церемония подачи блюд за обедом: одно блюдо подавали за другим. Из одной чашки ели несколько человек. Ели деревянными (чаще всего кленовыми) ложками. Вилками и ножами за поминальным столом не полагалось пользоваться, а пирог разламывали руками.
По окончании поминального обеда на "сорочины" каждый обедавший уносил с собой ложку, которой ел. В этот день хозяева старались накормить 40 человек и раздать 40 ложек.
Сервировка современного поминального обеда должна быть строгой, сдержанной. Скатерть - чисто-белая. Желательно белые цветы - астры, гладиолусы, хризантемы, каллы. Нужно обозначить место, где любил сидеть покойный, поставить здесь его прибор, рюмку водки на тарелочке. На эта место никто из присутствующих не садится.
Обстановка поминок должна быть сдержанной. Не следует произносить длинных тостов, вспоминать анекдоты, которые любил умерший.
На поминальных обедах не следует долго засиживаться, особенно тем, кто не является своим человеком в доме покойного.
![]()
Поминальная трапеза начиналась и заканчивалась кутьей и блинами, их дополняли оладьи.
Кутью в разных местностях готовили по-разному: из зерен пшеницы, сваренных в меду, из разваренного риса с сахаром и изюмом. В качестве поминального блюда употреблялась и каша (ячневая, пшенная).
![]()
Кутья представляет собой отваренные зерна крупы (пшеницы, риса) с медом (изюмом). Зерна служат символом воскресения, а мед - сладости, которой наслаждаются праведники в царстве Божием. По уставу кутья должна освящаться особым чином во время панихиды; если нет такой возможности, надо окропить ее святой водой.
Всегда подавали кутью, блины. На скоромный день, кроме этого, угощали жарким из телятины, холодцом, яичницей, оладьями с изюмом, а на постный - похлебкой из сухих грибов с постным маслом, солеными грибами. В любой день подавали сладкие "пострепеньки", сладкую шаньгу, порезанную кусками, которую ели, макая в мед.
В дни поминовения умерших в XIX веке пекли лесенку - продолговатый открытый пирог, разделенный, подобно лестнице, перекладинами из теста, между которыми клали сладкую начинку Лесенку брали в церковь на панихиду по умершему, а потом оставляли церковному причту либо относили на могилу.
И сейчас, по традиции, на поминки обычно печется рыбный пирог а также сладкий открытый пирог с перекладинами из теста и без них - сладкая шаньга.
Во всех случаях напоследок подается очень густой овсяный или ржаной кисель, который раньше ели с медом. Считалось, что киселем "торили дорогу покойному".
Не принято было подавать на поминки картофель и чай. Блины в день похорон, на "третины", не пекли.
Подача блюд. По последовательности подачи блюд поминальная трапеза носила форму обеда. Первое - похлебка, щи, лапша, суп. Второе - каша, иногда жареный картофель. Закуски - рыба, студень, а также к столу подавались овсяный кисель и мед.
В постные дни поминальный стол включал преимущественно постные блюда, в скоромные дни в состав блюд традиционно входили мясные щи и куриная лапша. Если память усопшего бывает в будний день Великого поста, то церковь рекомендует перенести поминки на ближайшую субботу или воскресенье.
Поминальный обед в любом случае не должен быть обильным: минимум холодных закусок и что-нибудь из вторых горячих блюд. Десерт очень легкий, торт здесь неуместен. Также неуместно и шампанское.
Вино или водка на поминках употреблялись, но не везде. Староверы на поминках водку не подавали, разрешалось пить только квас (в старину в старообрядческих деревнях не разрешалось готовить на поминки мясные блюда).
Заметим, что православная церковь налагает запрет на поминание усопших вином, потому что вино - символ земной радости, а поминки - повод для усиленной молитвы о человеке, который может тяжко страдать в загробной жизни.
Издревле на Руси были распространены языческие верования, превыше всего ставившие взаимоотношения человека и природы. Люди верили и поклонялись различным Богам, духам и прочим существам. И конечно же, эта вера сопровождалась бесчисленным множеством обрядов, праздников и священных мероприятий, самые интересные и необычные из которых мы собрали в этой подборке.
1. Имянаречение.
К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно. Считалось, что имя - это одновременно и оберег и судьба человека. У человека за его жизнь обряд имянаречения мог происходить несколько раз. Первый раз наречение имени рожденному младенцу проводит отец. При этом все понимают, что это имя временное, детское. Во время инициации, когда ребенку исполняется 12 лет, проводится обряд имянаречения, во время которого жрецы старой веры смывают их старые детские имена в священных водах. Меняли имя и в течение жизни: девушкам, выходившим замуж, или воинам, на грани жизни и смерти, или когда человек совершал что-то сверхъестественное, героическое или выдающееся.
Обряд имянаречения у юношей проходил только в тeкyщeй воде (peкa, ручей). Девушки могли проходить этот обряд как в тeкyщeй воде, так и в неподвижной (озеро, заводь), или в Капищах, в Святилищах и других местах. Обряд совершался следующим образом: нарекаемый берет восковую свечу в правую руку. После произнесенных жрецом в состоянии транса слов, нарекаемый должен погрузиться головой в воду, держа горящую свечу над водой. В священные воды заходили малые чада, а выходили безымянные, обновленные, чистые и непорочные люди, готовые получить от жрецов взрослые имена, начинающие совершенно новую самостоятельную жизнь, в соответствии с законами древних небесных богов и своих родов.
2. Банный обряд.
Банный обряд всегда должен начинаться с приветствия Хозяина Бани, или духа бани - Банника. Приветствие это так же является своего рода заговором, заговором пространства и среды, в котором будет проводиться банный обряд. Обычно сразу после прочтения такого заговора-приветствия, на камену подаётся ковшик горячей воды и поднимающийся с каменки пар, равномерно распределяется круговыми движениями веника или полотенца по всей парилке. Это и есть создание лёгкого пара. А веник банный величали в бане господином, или набольшим (самым главным), из века в век повторяли: «Банный веник и царя старше, коли царь парится»; «Веник в бане всем начальник»; «В бане веник дороже денег»; «Баня без веника - что стол без соли».
3. Тризна.
Тризна - погребальный воинский обряд у древних славян, который состоит из игр, плясок и состязаний в честь покойного; оплакивания умершего и поминального пиршества. Изначально тризнище состояло из обширного обрядового комплекса жертвоприношений, военных игр, песен, плясок и ристаний в честь покойного, оплакивания, причитаний и поминального пиршества как до, так и после сожжения. После принятия христианства на Руси долго время тризница сохранялась в виде поминальных песен и пира, а позднее этот древний языческий термин заменило собой название «поминки». Во время искренней молитвы за умерших в душах тех, кто молится, всегда появляется глубокое ощущение единства с родом и предками, которое непосредственное свидетельствует о нашей постоянной связи с ними. Этот обряд помогает найти душевное спокойствие живым и умершим, способствует их благотворному взаимодействую и взаимопомощи.
4. Отмыкание земли.
По легенде, Егорий вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю. Во многих деревнях проводились обряды, во время которых святого просили «открыть» землю - дать плодородие полям, защитить скот. Само ритуальное действо выглядело примерно так. Сначала выбирали парня, называвшегося «Юрьем», давали ему зажженный факел, украшали зеленью и клали на голову круглый пирог. Затем процессия, возглавляемая «Юрьем», трижды обходила озимые поля. После чего разводили костер и просили молитву святому.
В некоторых местах женщины обнаженными валялись на земле, приговаривая: «Как мы катаемся по полю, так пусть и хлеб растет в трубку». Иногда проводился молебен, после которого все присутствовавшие катались по озими - чтобы хлеба хорошо росли. Святой Георгий выпускал на землю росу, которую считали целебной «от семи недугов и от сглазу». Иногда люди катались по «Юрьевой росе», чтобы получить здоровье, недаром желали: «Будь здоров, как Юрьева роса!» Эту росу считали благодетельной для больных и немощных, а о безнадежных говорили: «Не выйти им на Юрьеву росу?». В день Егория вешнего во многих местах совершалось водосвятие рек и других источников. Этой водой окропляли посевы, пастбища.
5. Начало строительства дома.
Начало строительства дома у древних славян было связано с целым комплексом ритуальных действий и обрядов, предупреждающих возможное противодействие со стороны нечистой силы. Самым опасным периодом считался переезд в новую избу и начало жизни в ней. Предполагалось, что «нечистая сила» будет стремиться помешать будущему благополучию новосельцев. Потому до середины XIX века во многих местах России сохранялся и проводился древний обережный ритуал новоселья.
Всё начиналось с поиска места и строительных материалов. Иногда на участке ставили чугунок с пауком. И если он за ночь начинал плести паутину, то это считалось добрым знаком. В некоторых местах на предполагаемом участке в небольшую ямку ставили посудину с мёдом. И если в неё забирались мурашки - место считалось счастливым. Выбирая безопасное для стройки место, нередко вначале выпускали корову и ждали, пока она ляжет на землю. То место куда она ложилась, считалось удачным для будущего дома. А в некоторых местах будущий хозяин должен был собрать четыре камня с разных полей и разложить их на земле в виде четырёхугольника, внутри которого он клал на землю шапку и читал заговор. После этого нужно было ждать три дня, и если камни оставались нетронутыми, то место считалось удачно выбранным. Также надо отметить, что дом никогда не строили на том месте, где были найдены человеческие кости или где кто-либо порезал руку или ногу.
6. Русальная неделя.
Согласно народному поверью, всю неделю перед Троицей русалки находились на земле, селились в лесах, рощах и жили неподалеку от людей. Остальное время они пребывали на дне водоемов или под землей. Считалось, что русалками становились умершие некрещеные младенцы, девушки, ушедшие из жизни по собственной воле, а также умершие до замужества или во время беременности. Образ русалки с рыбьим хвостом вместо ног впервые был описан в литературе. Неупокоенные души умерших, вернувшись на землю, могли погубить растущий хлеб, наслать болезнь на скот, нанести вред самим людям и их хозяйству.
В эти дни людям было небезопасно проводить много времени на полях, отходить далеко от дома. Не разрешалось ходить в лес в одиночку, купаться (это носило особенный характер). Не выпускали даже домашний скот на пастбища. На Троицкой неделе женщины старались не заниматься своими повседневными хозяйскими работами в виде стирки белья, шитья, ткачества и другими работами. Вся неделя считала праздничной, поэтому устраивали общие гулянья, пляски, водили хороводы, ряженые в костюмах русалок подкрадывались к зазевавшимся, пугали и щекотали их.
7. Погребальные обряды.
Погребальные обычаи древних славян, особенно вятичей, радимичей, северян, кривичей, подробно описаны у Нестора. Над умершим творили тризну - показывали свою силу в воинских играх, конных состязаниях, песнях, плясках в честь умершего, совершали жертвоприношения, тело сжигали на большом костре - краде. У кривичей и вятичей пепел заключался в урну и ставился на столпе в окрестностях дорог с целью поддержать воинственный дух народа - не бояться смерти и сразу привыкать к мысли о тленности человеческой жизни. Столп - это небольшой погребальный домик, сруб, домовина. Такие домовины дожили в России до начала XX века. Что касается славян киевских и волынских, то они издревле мертвых погребали в земле. Вместе с телом зарывались особенные лестницы, сплетенные из ремней.
Интереснейшее дополнение о погребальном обряде вятичей можно найти в рассказе неизвестного путешественника, изложенном в одном из трудов Рыбакова. «Когда умирает у них кто-нибудь, труп его сжигают. Женщины же, когда случится у них покойник, царапают себе ножом руки и лица. При сожжении покойника они предаются шумному веселью, выражая радость по поводу милости, оказанной ему богом.»
Говорят, что на человека как на индивидуальность — смотрят три раза за его жизнь при рождении, во время свадьбы и, наконец, на похоронах. Все остальное время он является частью целого, членом семьи или Рода, а все его заслуги и неудачи сливаются воедино с достижениями и неурядицами семьи. Как хоронили древних русичей до принятия христианства, и что изменилось с приходом новой веры?
Курганы
Древние славяне по-разному провожали своих покойников в потусторонний мир, в зависимости от места проживания и эпохи. В лесистых местностях, где было достаточно древесины, сооружали погребальные костры — кроды, в степных районах хоронили в земле, а если смерть настигала человека в морском походе — тело предавали воде.
После сжигания тела прах либо хоронили в кургане, ссыпав в специальный горшок, либо развеивали над полями. Как правило, погост, где были погребены урны с прахом, располагался на другом берегу реки от поселения, к нему нужно было добираться по мосту.
Таким образом, мир живых и мир мертвых был разделен водой, а связующим звеном между этими мирами являлся мост. Это верование перекликается с мифом Древней Греции о Хароне и реке, протекающей в потустороннем мире — Стиксе.
В дохристианскую эпоху на погосте русичей не строили церквей, но там обязательно находился Кумир Рода, вырезанный из крупного цельного бревна или куска древесины, его высота была в пределах двух саженей (более четырех метров).
Курганы насыпали не очень высокими — от двух до четырех метра в высоту, в зависимости от статуса покойного. Располагались они на расстоянии в 6 метров друг от друга в шахматном порядке, чтобы тень не падала на соседние сооружения во время захода и восхода солнца.
Сооружали курган таким образом: ставили столб, к нему прикрепляли еще четыре столба, наверху на них устанавливали площадку, а на нее — глиняный сосуд с прахом. Рядом укладывали все, что по поверьям могло понадобиться душе в ином мире — оружие для мужчин и домашнюю утварь для женщин. Все это накрывали тканью — платом — а затем засыпали землей.
Некоторые курганы изначально делали более просторными, внутрь вел бревенчатый проход — благодаря этому один курган служил местом захоронения нескольких урн одной семьи.
Традиция строить домики — домовины, на столбах над местами захоронений в некоторых областях России сохранилась и до наших дней. Это небольшие сооружения размером примерно 1х1 метр, в виде коробки, состоящей из трех стен, пола и крыши. Одна из сторон отсутствует, поэтому в домовину можно положить поминальное угощение. Кроме того, такое сооружение, по поверьям, является уютным домиком для души, которая время от времени возвращается на могилу. Все это очень напоминает избушку на курьих ножках — дом сказочной Бабы Яги. Видимо, не все в сказках является выдумкой, кое-что взято из реальной жизни.

Кроме того, на старых деревенских кладбищах и сейчас кое-где сохранились деревянные кресты, покрытые деревянными же дощечками — это тоже своеобразная крыша, но она покрывает не домовину, а крест.

Похороны
Умершего сначала обязательно обмывали, облачали в чистые одежды, клали на лавку головой к красному углу, в котором стояли домашние кумиры — подобие современного иконостаса.
Руки и ноги связывали тонкой веревкой, тело накрывали белым холстом. Стеклянных зеркал в домах не было, вместо них использовали отполированные бронзовые или медные пластины — зерцала. Эти зерцала завешивали полотном, чтобы душа не заблудилась в ином мире, не осталась в зерцале и не забрала с собой кого-нибудь из членов семьи.
Двери в доме, где был покойник, не закрывали на замок, благодаря чему душа могла свободно перемещаться по усадьбе, в ожидании похорон и отправления на небо. Эта традиция в деревнях сохраняется и до настоящего времени, чем иногда пользуются недобросовестные односельчане, и стараются незаметно вынести что-либо со двора или из дома — по-просту украсть.
На глаза покойному клали тяжелые монеты — серебряные или медные, чтобы они не могли открыться. Иногда монеты помещали и в рот покойнику — его плата за перевоз в иной мир.
Издавна на Руси с покойным на Руси три дня — эта традиция сохранилась и с приходом христианства. В дохристианскую эпоху, покойника в день кремации перекладывали в лодку или ладью, в которой он переплывал реку Смородину — славянский аналог древнегреческого Стикса.
Позже, когда умерших начали хоронить в земле, лодка стала менее просторной, немного видоизменилась, приобрела крышку и другое название. Но и до сих пор, увидеть во сне человека в лодке означает его скорую смерть. А гроб, как в старину, называют домовиной.
Все три дня, в течение которых покойник находился дома, жрецы читали специальные напутствия, обращались к Перуну, ранее умершим предкам и высшим силам с просьбой принять его душу, перечисляли его заслуги на этом свете.
Из дома тело в лодке выносили вперед ногами, как будто покойный вышел сам. По традиции, несли его чужие люди, родные же не должны были идти впереди покойника.
Непосредственно перед помещением на место погребального костра, родственники целовали лоб умершего для получения от него энергии.
Иногда вместе с умершим мужем на тот свет отправлялась и его жена, причем делала это добровольно, показывая таким образом, что не желает с ним расставаться. Она одевала свои лучшие одежды, прощалась и родными, и при этом всячески веселилась — ведь впереди ее ждал лучший мир, жизнь с любимым в Свароге или в Ирии. В день кремации ее убивали, а тела сжигали на одной кроде.
Но чаще всего в рай знатного русича сопровождала одна из его наложниц, она добровольно соглашалась умереть, чтобы не расставаться со своим господином.
Вместе с умершим мужчиной сжигали трупы его коней и домашних животных. Для этого кроду составляли из дров, дающих много жара и огня — березы, дуба, кедра. Эти деревья считались священными и наиболее подходящими для кремации.
Пепел с кроды собирали в урну — домовину, и ставили ее на площадку, опорой для которой служили столбы. Сверху столбы закрывали крышкой, после чего и насыпался курган.
Тризна
Как правило, сожжение тела совершали на закате дня — жизнь кончилась так же, как завершается день. А Солнце — Сварог на ночь уходит в потусторонний мир — Навь и своими лучами освещает дорогу душе.
После сожжения устраивали поминальный ужин или тризну. Неподалеку от курганов и долины мертвых находилась площадка для воинских состязаний — ристалище. Если умерший был воином, кроме традиционного ужина на ристалище устраивали театрализованное представление в память о его подвигах. В ночь похорон никто не спал, печаль сменялась весельем, жизнь продолжалась.
Древние славяне свято верили в то, что человек не умирает полностью, а его душа направляется в лучший мир, чтобы затем вернуться на землю. Поэтому скорбь была не главным чувством на поминках. Здесь устраивали так называемые похоронные игры, разыгрывали сценки из жизни покойного, рассказывали о его жизни, вспоминали о других умерших родственников и их заслугах перед семьей и Родом.
Так своеобразно проходила тризна — поминки. Живые сами вкушали вкусные блюда, а на утро следующего дня отправлялись к свежему кургану «кормить покойника» — несли ему простое угощение — сладкую кашу или блины с медом. Это еще одна языческая традиция, сохранившаяся до наших дней.
Рассказ очевидца
Арабский писатель и путешественник 10 века Ахмед Ибн Фадлан побывал в Волжской Булгарии и в Древней Руси, после чего написал свои знаменитые «Записки» , в которых сделал описание похорон знатного русича. Естественно, что почести, о которых рассказал Фадлан, воздавались не всем, чем важнее и богаче был покойный, тем пышнее и значительнее был погребальный обряд.
Путешественник очень хотел побывать на похоронах важного русского господина, и вот, наконец, до него дошли вести о смерти одного из них. По его словам, умершего положили в могилу и накрыли крышей, там он находился в течение десяти дней, и не испортился из-за прохладного климата, а только почернел.
Все это время шли приготовления к похоронам — покойному шили одежду, готовили домашних животных, выбирали человека, который должен умереть в день похорон.
Ибн Фадлан рассказывал, что если умирал бедный русич, для него делали маленький корабль, в нем же его и сжигали. Ритуал похорон богатого человека проходил сложнее — община собирала все его деньги и делила на три части. Одну оставляли семье, вторую использовали для пошива одежды покойнику, третью расходовали на поминальный ужин, который арабский путешественник назвал на свой манер набидом.
Когда умирает глава большого и знатного рода, его отроков и девушек спрашивают, кто из них хочет отправиться в мир иной вместе с хозяином. Если кто-либо высказывал такое желание и говорил об этом, он уже не вправе был отказаться от своих слов, даже если бы захотел, ему не позволило бы общество и родственники покойного.
Чаще всего о намерении отправиться в лучший мир вместе с умершим господином заявляют его девушки — кого имел ввиду арабский путешественник не совсем ясно. Возможно это действительно были рабыни, или ближайшие родственницы покойного.
С этого момента девушку начинали оберегать две ее подруги, куда бы она ни пошла. Они внимательно ухаживали за ней, и иногда они даже мыли ее ноги. Все время, пока шла подготовка к похоронам, девушка веселилась, радовалась, хорошо питалась и пила вкусные напитки.
В день сожжения покойного и девушку доставляют к реке на которой уже стоит похоронный корабль. Судно вытаскивают на берег и ставят на подпорки из белого тополя или другого дерева, вниз накладывают как можно больше сухих дров.
На корабле заранее ставят скамью, покрывают стеганными одеялами, византийской парчой, подушками, сооружая подобие палатки. Изнутри корабль обшивают дорогими тканями. После этого покойника достают из могилы и привозят на корабль.
Всеми работами руководит пожилая женщина, которую Ахмед Ибн Фадлан назвал ангелом смерти. По словам путешественника, женщина имела совсем не ангельский вид: была суровой, мрачной, большой и толстой, более похожей на ведьму, чем на ангела.
Покойного, после извлечения из могилы, наряжали в шаровары, гетры, парчовый кафтан с золотыми пуговицами, сапоги, шапку из парчи и соболя.
Затем относили на корабль и сажали в палатку, установленную на корабле. Его помещали на матрац и подпирали подушками. Рядом ставили сосуд с хмельным напитком, все его оружие, благовонные растения, хлеб, мясо и другие продукты.
На корабль же помещали собаку умершего — убитую и разрезанную на две части. Двух коней гоняли до тех пор, пока они не вспотеют, после чего убивали их мечом, разрезали и бросали мясо рядом с разрезанной собакой. Таким же образом убивали двух волов, петуха и курицу.
Девушку, пожелавшую быть убитой, трижды поднимали на некоем сооружении из досок, похожем на большие ворота. При этом она говорила, что видит своих умерших родителей, родственников и господина, который сидит в прекрасном саду и зовет ее. Во время этого она убивала курицу, отрезая ей голову, и тоже бросила ее на корабль.
Добровольную жертву отводили на корабль, где она снимала браслеты с рук и с ног, отдавала их ангелу смерти и девушкам, которые охраняли ее все это время. По словам автора, эти девушки были дочками ангела смерти.
На корабле ее отводили в отдельную палатку, вокруг которой стояли мужчины и стучали в щиты, чтобы заглушить ее крики. Девушке давали выпить хмельного напитка — сначала один кубок, затем еще, и при этом пела песни.
После этого ей нужно было войти в кабину, где в подушках сидел ее господин. Когда девушка заколебалась, старуха — ангел смерти — втолкнула ее, и вошла вместе с ней. При этом мужчины били в щиты еще громче, стараясь заглушить крики несчастной, чтобы другие девушки не испугались, и не отказавались бы умирать вместе с хозяевами.
Девушку положили рядом с хозяином, ангел смерти обвила вокруг ее шеи веревку, оба конца которой тянули двое мужчин, чтобы задушить ее, а сама втыкала в нее кинжал. В результате жертва умирала.
После этого ближайший родственник покойного подходил к кораблю с горящей лучиной и поджигал дрова, уложенные под кораблем. Затем с подожженными лучинами подходили и другие участники действа.
Пл рассказам Ахмеда Ибн Фадлана, в это время подул ужасный ветер, вскоре весь корабль и помостки были охвачены огнем, и уже через час все сгорело полностью — настолько большим был костер.
Один из русов, находившийся рядом с путешественником, сказал, что арабы поступают глупо, что предают своих любимых людей земле, где их прах поедают черви. Русичи сжигают покойников в одно мгновение, и те попадают в рай тотчас. Он добавил так же, что Бог послал сильный ветер, и корабль и господин и девушка быстро превратились в золу и пепел.
На месте жертвенного костра соорудили круглый холм — курган, поставили в середине столб из белого тополя, написали на нем имя умершего и имя царя русов и ушли, совершать поминальный ужин.
По словам Ибн Фадлана, участники похорон так активно поминали, так пили набид днем и ночью, что некоторые из них умирали с чашами в руках.
Для справки : «Записки» арабского писателя в современном виде впервые были опубликованы в 1823 году. Список (копия) произведения нашел востоковед Заки Валиди в 1923 году в библиотеке имама Али ибн-Риза в Иране. Фотокопии документа иранские ученые передали Академии Наук СССР в 1937 году, после чего российские ученые сделали его перевод.
Историки спорят по поводу аутентичности «Записок», а так же относительно того, кого в них называют русичами — действительно славян, или же скандинавов, торговавших на территории Волжской Булгарии и других земель, впоследствии ставших частью Руси — России.
Обе версии имеют право на существование. Тем более, что славяне были и остаются крупнейшей на территории Европы этноязыковой общностью, которая в течение веков вела торговлю со скандинавами. А те, в свою очередь, активно заселяли северные территории восточных славян. Об этом свидетельствуют находки 9-10 веков на Рюриковом городище, и в других курганах-захоронениях. Найденные артефакты по времени совпадают с событиями, описанными Ибн Фадланом.
Похоронный обряд - неотъемлемая часть жизни, переход Души в другой мир, восхождение на другую ступень. Печаль по ушедшим у славян была не так горька - похоронный обряд завершался общим пиршеством, где вспоминали ушедшего добрым словом, но не плакали и не причитали. Более поздние погребальные обряды стали включать в себя плачи по умершим, но древние традиции похорон славян основывались на согласии живых с происшедшей смертью.
 Похороны по славянской традиции - это кремация, называли этот ритуал «крадой
». Прах по славянским традициям похорон хоронили в курганах вокруг поселений, в более позднее время - даже рядом с собственным домом. Прах хоронили в деревянных домовинах - это своеобразный «дом для мёртвого».
Похороны по славянской традиции - это кремация, называли этот ритуал «крадой
». Прах по славянским традициям похорон хоронили в курганах вокруг поселений, в более позднее время - даже рядом с собственным домом. Прах хоронили в деревянных домовинах - это своеобразный «дом для мёртвого».
Похоронный обряд был сопряжен с представлением того, что тело умирает, но душа все же какое-то время жаждет воды, еды, тепла. Поэтому в обрядности присутствуют свечи, питье, пища. Предполагалось также, что умершему в загробном мире могут понадобиться некоторые вещи, украшения, бытовые принадлежности. Поэтому все нужное укладывалось вместе с покойным в костёр.
Погребальные обряды («тризна »), совершались уже после захоронения. Поминовения усопшего включали в себя пляски, игры, состязания, песни, пир и военные соревнования. Готовилась ритуальная пища - «страва ». Всё это делалось в честь покойного. Важно было таким образом «отслужить» тризну рядом с тем местом, где похоронили человека, в честь которого все совершалось. Несколько позднее уже такой обряд стали называть «поминками».
Однако «поминки » совершались (да и сейчас совершаются) в несколько этапов:
- сразу после захоронения;
- на 3-й день – третины;
- на 9-й день – девятины;
- 40-й день – сороковины;
- 1 год и так далее.
Иногда с умершим человеком прощались каждый день в течение 12 дней или одной недели. Иногда захватывали и другие периоды. Например, 20-й день, который именовался – полусороковины. В сороковины, 40-й день, считается, что дух умершего окончательно покидает землю, мир людей.
В сороковины обязательно нужно в кутном углу, особом месте для покойника, класть «помин». Он включает в себя – хлеб, стакан с водой. Предполагается, что скудная пища даёт понять душе покойного, что ему пора идти в иной мир, что теперь ему «не едать вволю хлеба живых», а полагается «вкушать пищу мертвых». Также покойнику могли стелить «постельку» в том месте, где он любил отдыхать. Но только после 40-го дня уже этого не делали.
После того, как семья отметила год после ухода близкого, его поминовение включалось в общие Дедовы дни - весной, летом и осенью.
Тайна: путешествие Души в загробный мир
Славянский погребальный обряд - крада
Ещё раз о похоронном обычае сожжения умерших. В «Повести временных лет» летописец Нестор пишет:
…Аще кто умряше, творяху тризно над ним, и по семь творяху кладу велику и взъложахут и на кладу, мертвеца сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину малу и поставляху на столпе на путех, еже творять вятичи и ныне…
В представлении древних славян именно такой способ прощания с умершим был одновременно и помощью ему в том, чтобы поскорее покинуть Мир Яви и уйти в положенное ему место – Мир Нави. Сожжения тела помогает Душе поскорее освободиться от груза земного и отправиться в загробное путешествие.
 Известна более поздняя традиция - приглашать на похороны особых плакальщиц
. Их называли:
Известна более поздняя традиция - приглашать на похороны особых плакальщиц
. Их называли:
- плакальщицы;
- рыдальщицы или рыдальницы;
- отпевальницы;
- причитальщицы.
Они пели особые старинные обрядовые песни, касающиеся проводов покойного в загробный мир, помогали родственникам и близким пережить горе, отдать свою боль - и продолжать жить.
Многое утрачено современными славянами. Если заглянуть в те дни, когда жили их предки, можно многое полезного почерпнуть не только для нынешней современности, но также и для построения лучшего будущего. Ведь, как известно: «Кто забывает прошлое, не знает его, тот не ведает, как жить в настоящем и как построить будущее».