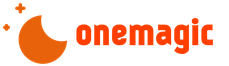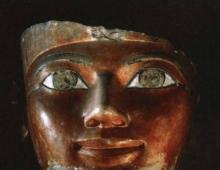Взаимопонимание. Множество философских языков: проблема взаимопонимания философов
Анализируя проблемы современной философии диалога, невозможно обойти тему ценностей. Известно, какую огромную актуальность приобрела сегодня проблема выработки общечеловеческих ценностей. Мы знаем, что почти все крупнейшие мыслители современности, так или иначе, ставят и обсуждают эту проблему, правда, по большей части обозначая и осмысливая имеющиеся здесь трудности, чем предлагая конкретные пути и способы решения. Тем не менее, не приходится сомневаться в том, что одна из наиболее фундаментальных предпосылок как постановки и осмысления этой проблемы, так и поисков путей и средств ее решения, заключается в развитии нового понимания философии диалога как пространства динамики философского мышления, диалога философских традиций Запада и Востока и межкультурного диалога, жизненно необходимых в условиях современной цивилизации. Философская компаративистика XX столетия и начала нынешнего, выделяя типы мышления, типы рациональностей и иррациональностей, используя методы проведения аналогий, параллелей и диалога, раскрывает тождество и различие философских культур, механизм их взаимодействия.
Распространенность, естественность и обыденность диалога на первый взгляд столь интуитивно достоверна и очевидна, что это порой ведет к взгляду на диалог как на нечто, не представляющее интереса для философии. Диалог же является сложной, наполненной многообразным содержанием, специфически человеческой формой взаимодействия. Уверенно можно говорить, что проблематический характер диалога стал осознаваться не так давно. Осознание проблематичности диалога шло рука об руку с пониманием необходимости его междисциплинарных исследований и возможности достижения экспликации его структуры, механизмов, подлинной роли только на этом пути. Интерес к диалогу, возродившийся в настоящее время в философской литературе, демонстрирует отказ от усилий выработки какого-либо унифицированного подхода к диалогу. Наоборот, множественность точек зрения, методов и базовых предпосылок, обнаруживаемых в исследованиях диалога, свидетельствует в пользу того, что диалог не может быть с легкостью объяснен в терминах теорий, развитых с недиалогической стартовой точки.
Диалог есть особая форма взаимодействия — как интеллектуального, так и предметного. Диалог может включать ряд промежуточных действий, создающих некоторого рода цепь, в которой участвуют, по меньшей мере, две стороны и в которой после определенного действия одной стороны наступает действие другой. Взаимосвязь указанных действий может определяться различным образом: в терминах действия и противодействия, вопроса и ответа, атаки и обороны или контратаки, доказательства и опровержения или критики, вызова и защиты и целого ряда иных терминов. Да и сам диалог может носить конструктивный или деструктивный характер, быть выражением партнерства или враждебности, обладать ярко выраженным познавательным интересом и определенной целью. Диалог двуедин уже в том, что сочетает в себе и форму, которая выступает способом его существования и содержательную направленность. Но каковы бы ни были возможные точки отсчета, нельзя отрицать всеобщность диалога как основы человеческого взаимодействия, всеобщность диалогизма и диалогических отношений.
. .На наш взгляд, совершенно справедливо высказывание одного из основоположников современной философии диалога М.М.Бахтина: «Быть — значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается… Два голоса — минимум жизни, минимум бытия» /1, с. 434/. Утверждая, что человека невозможно познать, если он сам не высказал себя, если он этого не хочет, и что единственный путь к возможности его познания — это диалог, он пишет далее: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, — с ними можно только диалогически общаться. Думать о них — значит, говорить с ними, иначе они тотчас же поворачиваются к нам своей объектной стороной: они замолкают, закрываются и застывают в завершенные объектные образы» /1, с. 116/. М.М.Бахтин верно подчеркивает мысль о том, что диалог — это не средство, а самоцель и самоценность. Предложенное мыслителем понимание гуманитарных наук и мышления формирует иной способ подхода к различным стилям мышления, лозунгом которых является диалог как способ бытия человека в мире, а вместе с тем и как способ познания гуманистической, наполненной смыслами действительности.
Диалог есть необходимое условие философствования. Думается, что тезис о сущно-стно дискуссионном, в значит, о диалоговом характере философствования имеет такую степень очевидности, которая не требует дополнительного аргументирования в свою пользу. Диалогические отношения служат каркасом философско-гуманитарного исследования в целом ряде областей.
По мнению многих современных мыслителей, политиков, ученых экологические, антропологические, духовно-нравственные кризисные ситуации в развитии западной цивилизации, обострившиеся во второй половине XX в., поставили под вопрос само сущест-вование человечества. Возникла потребность в новых стратегиях отношения к природе и к человеку, в более гармоничном сочетании всех форм реализации его творчески созидательной и преобразовательной деятельности. Глобальные опасности для человечества начала XXI в. обострили проблему его выживания. Былой пафос революционного преобразования уступает место обоснованию ценностей ненасилия и терпимости к инакомыслию.
В отличие от прежних подходов к проблеме, когда упор делался на роль конфликта и борьбы, а идея их примирения оценивалась негативно, современные поиски общественно-политической стабильности сопровождаются попытками обоснования примирения противоположностей, согласия и ненасильственного развития. Интересные суждения об этике ненасилия выдвигает в своих работах А.А.Гусейнов.
Импульсы к исследованиям этики ненасилия обусловливаются не только социальным и политическим развитием, но и логикой познания в современных естественных науках — физике элементарных частиц в ее связи с космологией, в термодинамике неравновесных систем и т.д. В результате формируется новая концепция Вселенной как саморазвивающейся системы, в которой человек не просто противостоит объекту познания как чему-то внешнему, а включается своей деятельностью в систему. При этом увеличение энергетического и силового воздействия человека на систему может вызвать не только желательные, но и нежелательные, а то и катастрофические последствия.
Изучением общих закономерностей самоорганизации и реорганизации, становления устойчивых структур в сложных системах занимается синергетика. Эта наука, как известно, существенно изменила прежние представления о соотношении гармонии и хаоса. Возникнув в лоне термодинамики неравновесных открытых систем, синергетика претендует ныне на статус общенаучной, междисциплинарной парадигмы, обладающей большими эвристическими возможностями в области философского знания. Понятие самоорганизации в контексте образов и идей лауреата Нобелевской премии И.Пригожина /3/ предполагает личностный, диалоговый способ мышления — открытый будущему, развивающийся во времени необратимый коммуникативный процесс. Так, проблема диалога в философии обрела особую актуальность в изучении роли несиловых взаимодействий в сложных самоорганизующихся системах. Диалогизм научного метода все более определяет динамизм концептуальных систем и современного научного мышления. Диалог как способ мышления позволяет выдвинуть на первый план идею преемственности развития научного познания.
В настоящее время идея диалога, под именами диалогики и диалоговедения продолжающая свое движение вперед, находится в центре философского внимания и обсуждения. Играя далеко не последнюю роль в становлении и развитии философского мышления, диалог только в наше время «обрел собственный голос»: стал не канвой и не формой, а темой философского обсуждения. Главный принцип подлинного диалогического отношения — абсолютная независимость и свобода друг от друга, и в то же время глубоко внутреннее, интимное единство. Диалогизм - это не просто та часть мира, где ведутся диалоги. Этим термином можно охарактеризовать ту сторону мира, в которой постигается человек. В этом суть универсального философского значения диалога.
Анализируя казахскую философскую мысль в контексте развития реалий современности, духовно-нравственные ценности казахского народа, включающие в себя гуманность и милосердие, доброжелательность и гостеприимство, открытость и миролюбие, невозможно обойти тему толерантности, так как толерантность есть органически присущий казахской философии этический принцип, ее важнейшая и характерная особенность.
Каждая эпоха определяет акценты в философской рефлексии, отражающей дух времени, проблемы и сомнения, переживаемые и обществом в целом и отдельными его мыслителями. Масштабные и интенсивные интеграционные процессы, характеризующие минувший XX и наступивший XXI век, дают основание говорить о глубинных качественных переменах в человеческом обществе. Сегодня совершенно очевидно возрастание потребности в расширении контактов, в углублении диалога культур, без чего невозможно дальнейшее развитие человечества. Тема толерантности является основополагающей в сегодняшнем мире. Толерантность является в наши дни важнейшей характеристикой мышления современного человека, она становится своеобразной парадигмой мышления.
Казахи, являющиеся наследниками великой кочевой культуры, на протяжении тысячелетий демонстрировали свои адаптационные возможности при постоянно меняющихся внешних условиях. Большую роль сыграл здесь Великий Шелковый путь, наиболее протяженный участок которого проходил через территорию Средней Азии и Казахстана. Следует отметить, что Шелковый путь — одно из наиболее значительных достижений в истории мировой цивилизации. Разветвленные сети караванных дорог пересекали Европу и Азию от Средиземноморья до Китая и служили в эпоху древности и средневековья важным средством торговых связей. Кроме того, Великий Шелковый путь, пролегавший через территорию нашей страны, являлся связующим мостом взаимодействия и диалога цивилизаций и культур Запада и Востока, взаимно обогащая всех участников этого процесса. Караванные пути, с постоянно циркулирующими идеями, знаниями, вероисповеданиями и товарами, на протяжении тысячелетий влияли на менталитет народа древнего Казахстана. Это явление, на наш взгляд, сделало предков казахов толерантными по отношению к иным культурным традициям и влияниям.
.Известно, что толерантность имеет временную локальность, проявляется во всех культурах и в этом смысле универсальна. Казахские философы, чьи воззрения были пронизаны духом терпимости, хорошо понимали, что нельзя делать другим то, чего себе не желаешь. Чем больше ты фанатик своей веры, тем более ты веротерпим, считали они. Требования толерантности применялись ими прежде всего к самим себе, ибо свои взгляды надо отстаивать. Казахская философия, в которой хорошо выражена суть национального характера и менталитет народа, открыта к другим культурным влияниям и традициям, она всегда свободно воспринимала любой полезный опыт.
Примером подлинного и глубокого понимания традиций иных культур, доброжелательного и заинтересованного обращения к культуре России и Запада, а также признания важности расположенности страны на стыке восточных и западных влияний является Абай. Абай, чье этическое учение является квинтэссенцией казахской философской мысли и в чьем творческом наследии осуществлен качественно новый уровень философского осмысления действительности в казахской мыслительной традиции, впервые в истории народа реализовал и воплотил синтез идей Востока и Запада, чем выразил сокровенные желания, думы и умонастроения казахов. Через все его творения, пронизанные духом толерантности, красной нитью проходит идея межкультурного диалога.
От Абая путь лежит к сокровенным глубинам национального духа и от него же открывается путь к глобализированному восприятию мира. А это в наше время подразумевает разнообразие культур, верований, религий, экономических, социальных и политических устройств, а также всех способов жизни, существующих в гармонии и взаимодействии. Культивируемое разнообразие не означает изоляции людей или культур друг от друга, оно призывает людей к международному, межкультурному контакту и диалогу. Такое разнообразие не означает также сохранения неравенства, поскольку равенство — не в единообразии, а в признании равных ценностей и достоинства всех народов, всех культур. Эти мысли самым органичным образом находят отклик в стихии абаевского мира. Абай писал в своих «Словах назидания»: «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в стороне. Такова природа человека» /4, с. 49/. Мировосприятие современного человека предполагает всевозрастающий интерес к другой цивилизации и культуре. Знание о человеке приходит через внутренний и внешний диалоги, и тогда между ними теряется понятие чужого. Пространство для полноценного диалога формирует развитая культура общения и соответствующая система ценностей. Нет сомнений в том, что глобализация, которую переживает сегодня весь мир, потребует от человека дополнительных серьезных усилий по сохранению и развитию культуры диалога — первостепенной ценности в нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире.
ГЛАВА 1. КАК ВОЗМОЖНА ФИЛОСОФИЯ?ГЛАВА 1. КАК ВОЗМОЖНА ФИЛОСОФИЯ?
1.1. ЛЮБОМУДРИЕ - КЛЮЧ К ТАЙНЕ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ ФИЛОСОФИИ
Вопрос о том, каковы предмет и сущность исследуемого объекта, - это вопрос, с которого, как правило, начинается знакомство с той или иной учебной дисциплиной. Любой учебник, будь это учебник по физике, математике или биологии, открывается определением предмета данной дисциплины. Принимая его за аксиому, достоверную самоочевидность, мы его утверждаем в качестве рабочего инструментария для решения соответствующих проблем, существующих в рамках этой науки. Что касается философии, то здесь складывается необычная, можно даже сказать, парадоксальная ситуация, поскольку философия начинается с вопроса о своей сущности, вращается вокруг него и заканчивается им, т.е. она начинается с определения самой себя, с оправдания, обоснования собственного бытия, этим и завершается. Это значит, что философия всегда является для самой себя проблемой, она по своей сути есть своя собственная проблема 1 . В этом проявляется особенность философии, ее отличие от науки.
Однако данное обстоятельство не означает, что у философии нет своего собственного определения. Напротив, этих определений в истории философии было столь много, что только их перечисление может составить предмет отдельного фундаментального труда 2 . Можно сказать, что у каждого более или менее известного философа было свое определение философии, видение ее природы и сущности. Пожалуй, не будет даже преувеличением, что именно постановкой и решением вопроса о собственной сущности философии определяется все содержание историко-философского процесса.
На этом понимании философии из нее самой настаивал Хайдеггер: «Она (философия. - Прим. авт.) требует, чтобы мы смотрели не в сторону от нее, но добывали ее из нее самой». Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. - М.: Республика, 1993. - С. 329.
2 Примером этому служит известная работа: Желнов М.В. Предмет философии в истории философии. Предыстория. - М.: Изд-во Московского университета, 1981.
Если это так, то следующий вопрос, который сам собой напрашивается, - вопрос о выборе из этого бесконечного океана различных и в большинстве своем альтернативных определений, наиболее адекватных. На первый взгляд представляется, что в качестве таковых могут быть те из них, которые уже вошли в наши традиционные философские справочные пособия. Самым известным является следующее определение: «Философия - наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления» 1 . Данное определение обычно приписывается Ф. Энгельсу, правда, он так определял не философию, а диалектику. Верно ли это определение? Безусловно, верно, но не потому, что оно принадлежит великому Энгельсу, а потому, что оно адекватно отражает суть его философии. Но это не означает, что так же философию понимали и другие мыслители в истории философии, например Сократ, Платон, Кант или Гегель. У каждого из них было свое понимание природы и сущности философии. И все эти определения, несмотря на их различия, имеют право на существование и оказываются равнозначными, хотя бы только потому, что они высказаны просто мыслящими существами, которые являются уже по своей природе философами. Философская природа человека не вызывает сомнений, так как каждый человек рано или поздно задумывается, размышляет над «извечными» вопросами бытия как такового и человеческого - в частности. А если все люди по природе - философы, то любое мнение по вопросу о сущности философии, кем бы оно ни высказывалось, будь это мнение самого авторитетного выдающегося мыслителя или простого обывателя, и как бы оно ни было абсурдно, имеет право на существование, ибо оно отражает его личное понимание философии. В этом смысле не может быть одной философии, в единственном числе, всегда существует множество философий, олицетворяемых их творцами.
И все-таки, как возможна философия? Видимо, рассуждения на эту тему следует начинать с самого простого и традиционного - с этимологии слова «философия». Впрочем, пишущие на эту тему всегда вначале отмечают, что слово «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». Но тут же об этом забывают и буквально через несколько строк определяют философию как «науку о...» или как «учение об общих принципах...» и т.п. Но природа и сущность философии, тайна ее как раз и заключена в
1 Большая советская энциклопедия. Т. 27. (3-е изд.). - М.: Советская энциклопедия, 1977. - С. 412.
этом словосочетании «любовь к мудрости». Поэтому стоит детально остановиться на нем.
В словосочетании «любовь к мудрости» определяющим является слово «любовь». Что такое любовь? Безусловно, получить какой-то точный, однозначный, удовлетворяющий всех ответ на этот вопрос так же невозможно, как и ответ на вопрос «что есть философия?». И все же, говоря о любви, всем ясно, что речь идет о некоем человеческом чувстве, характеризующем состояние его души «здесь и теперь», психологический настрой, сконцентрированный на объекте любви. Философия и есть как раз такое чувствование, захваченное философствованием. Следовательно, для акта философствования необходим соответствующий психологический настрой, осуществляющий мысль 1 . В этом смысле философия сродни поэзии: подобно тому, как поэт творит по вдохновению, так же для начала акта философствования необходим определенный настрой, нужно вдохновение, приводящее в движение «поток сознания».
Таким образом, философия и философ - это не данность, а процесс, который, как и любой другой процесс, имеет начало и конец. Философ является философом, пока продолжается акт философствования, чувствование мысли, нет акта - нет философа и философии 2 . Можно даже сказать, что подлинное философствование - то, которое вовлечено в такую чувственность. В противном случае оно лишено корней.
Однако, если философия - чувствование, то ясно, что ей невозможно научить и тем более нельзя изучать ее, так как передать свое состояние души другому человеку, научить его чувству невозможно. В лучшем случае можно привить чувство любви к философии, приобщить человека к ней, как это делали, например, древние греки, в частности Сократ, Платон, Аристотель. Но как возможно такое приобщение?
Для воспитания, выработки чувства философствования, как уже отмечалось, необходим определенный психологический настрой,
Вспомним опять-таки Хайдеггера: философию рождает не мысль, а настроение. «Философия осуществляется всегда в некоем фундаментальном настроении». - Хайдеггер М. Цит. раб. С. 332; И: «...блаженство изумления - та зоркая захваченность [сущим], которая есть дыхание всякого философствования». - Цит. по: Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. (2-е изд.) - М.: Молодая гвардия, 2005. -
2 Тот же великий «германский мастер» подчеркивал: «Она (философия. - Прим. авт.) сама есть только когда мы философствуем. Философия есть философствование». - Хайдеггер М. Цит. соч. - С. 329.
который, в свою очередь, предполагает соответствующую свободу пространства и времени. Существующая практика образования, ограничивающая человека конкретными пространством (аудиторией) и временем (указанным в расписании), не только не способствует приобщению людей к философии, но, напротив, вызывает чувство отвращения к ней. Неслучайно великий Аристотель приобщал своих учеников к философии, «прогуливаясь по парку» («перипатетически»), в количестве, конечно, не 150-200 человек, как это у нас обычно бывает в лекционных аудиториях, а двух-трех.
Из всего сказанного ясно, что философия по своей природе не является наукой и не может ею быть: ни одна наука никогда не имела и в принципе не может иметь в качестве своего предмета изучение чувств 1 . Тем более что философия, как уже отмечалось, имеет дело с чувствованием мысли, ухваченной в понятиях, она есть любовь к мысли. Но возникает вопрос: любовь к мысли как таковой, ко всякой мысли? Ответ на него заключен во втором слове в словосочетании «любовь к мудрости».
Оказывается, философия есть любовь только к мудрой мысли. А что такое мудрая мысль, мудрость? Прежде чем дать определение мудрости, приведу примеры разного порядка мыслей. Первый пример: «Сейчас за окном идет снег и, видимо, там холодно». Есть ли данное суждение мысль, а тем более мудрая? Безусловно, нет, это даже не мысль, а определенная информация, имеющая смысл только «здесь и теперь». Для второго примера обратимся к великим мудрецам древности. Вспомним широко известные слова «плачущего философа», философа-досократика Гераклита Эфесского: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды.. Все течет, все изменяется.» 2 . В этом высказывании, образованном из простых слов обыденного языка, действительно кроется глубочайшая мудрая мысль, ибо в ней Гераклит сумел «ухватить» отдельный аспект бытия в его всеобщности, а это значит, что данная его мысль общезначима, она имеет смысл для всех и вся и навсегда.
Теперь обратимся к другой мысли, так же широко известной, того же самого философа: «Многознание уму не научает.» 3 . Эти слова
1 На это, как известно, обращал внимание Б. Паскаль, разделяя философию на «философию разума» и «философию сердца».
2 Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. - М.: Госполитиздат, 1955. - С. 49.
3 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. - М.: Наука, 1989. - С. 195.
очень актуальны для нашей системы образования, ориентированной на многознание, информированность. Действительно, после завершения очередной ступени образования, будь это школа или вуз, обучаемый получает большой багаж знаний, который, к сожалению, никак не может быть применен на практике, ибо его не научили мыслить. Будучи в школе, а затем в вузе обучаемый получает лишь информацию о чем-то, а не знание, которое всегда предполагает понимание, а этому наша система образования и не учит, т.е. не учит мыслить. Последнее возможно лишь в том случае, если в качестве предмета изучения фигурируют такие фундаментальные теории, которые позволяют формировать мышление человека, вырабатывают у них его навыки. А что может, например, дать «для ума» знание того исторического факта, что Куликовская битва была в 1380 г., или знание закона Ома, или, что скорость свободного падения равна 9,81 м/с. Если есть необходимость получить такую информацию, то для этого существуют справочные пособия. Как можно владеть такой информацией и не иметь никаких представлений о фундаментальных теориях, формирующих мышление, мироощущение человека. В качестве такого рода теорий могут быть, например, в физике - механика И. Ньютона и теория относительности А. Эйнштейна, в математике - теории дифференциального и интегрального исчисления, множеств; вероятности; в биологии - разного рода гипотезы о происхождении жизни и т.д.
Как показывает практика, выпускники школ в большинстве своем даже не слышали о подобных теориях или гипотезах и формальный характер системы образования, проявляющийся в первую очередь в широко применяемой сегодня у нас западной системы тестирования, которая еще больше разрушает творческий характер обучения, превращая его в процесс не поиска истины, в ходе которого она творится, а «угадывания» правильных, заранее известных ответов. Чрезвычайная загруженность учащихся «нужными» и «ненужными» дисциплинами, а также информативный подход не только не способствуют процессу научения мысли, но, напротив, отвращают их от него. При таком подходе учащиеся превращаются в простых технологов мышления, усвоивших в какой-то мере некоторые простейшие алгоритмы для описания, а не понимания реальности. Этому пониманию как раз и может содействовать философия, которая должна, скорее, не учить, а приобщать людей к мысли, вырабатывать навыки мышления. Для этого, собственно, она и предназначена, в этом заключена ее основная функция, этим определяется ее проблемное поле.
1.2. ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТАФИЗИКА ЗНАНИЯ. ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИЛОСОФСКОГО
ЗНАНИЯ
Безусловно, в каждой науке есть своя главная проблема, основной вопрос. Применительно к философии это вопрос, который сформулировал Ф. Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. вопрос о том, что первично: бытие или мышление?» 1 Но действительно ли в этом вопросе заключена вся основная философская проблематика, определившая основное содержание историко-философского процесса? Ни один человек, руководствующийся здравым смыслом, не может сомневаться в реальном существовании мира, а сам вопрос о том, что первично: бытие или мышление, кажется абсурдным, ибо мышление и есть самое бытие, оно так же бытийно, как и окружающий нас реальный мир. Разумеется, когда Энгельс задавал вопрос о первичности, он имел в виду, что существовало прежде: дух или природа? Ответ на данный вопрос казался столь очевидным, что никто даже не пытался его обосновать. Но он очевиден только до тех пор, пока мы над ним не задумываемся, а как только задумаемся, оказывается, что он не только не очевиден, но даже и не мыслим: нельзя помыслить себе раздельно первичность бытия или мышления. Поэтому оставалось в него только верить: так называемые материалисты принимали на веру первичность природы, а их идейные противники, так называемые идеалисты, уверовали в первичность духа, но никто из них, как свидетельствует история европейской философии, не пытался даже этого доказывать, ибо это не только недоказуемо, но даже немыслимо.
Сама же формулировка Энгельсом основного вопроса философии, возможно, была идеологически ему навязана идеей партийности философии, что предопределило понимание им и его последователями - марксистами - всей истории философии как истории борьбы материализма и идеализма. На самом деле, как показывает объективная (реальная) история философии, весь ход историко-философского процесса есть история возможных решений проблем бытия, столк-
Энгельс Фр. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., Энгельс Фр. Собр. соч. 2-е изд. Т. 21. - М., 1953. - С. 282.
новения возможных мнений о бытии 1 . Самая же попытка «навешивания ярлыков», определения философской позиции того или иного мыслителя как материалиста или идеалиста не только ничего не дает «для ума», но, напротив, значительно сужает кругозор видения того позитивного, «живого», что есть в его метафизических построениях.
Если в философии и есть основной вопрос, то он находится за пределами вопроса о том, что первично. В существовании бытия ни один разумный человек не может сомневаться. Но есть другие вопросы: как это бытие мне дано? Как его можно помыслить? Как можно помыслить то, что мыслю, т.е. то, что есть предмет моей мысли? Исходя из этого объектом рассмотрения философии может быть все, начиная с пресловутого «философского стола» и заканчивая размышлениями о конечности или бесконечности Вселенной. И в том и другом случае объект рассматривается не непосредственно, как это имеет место в науке, когда исследователь занимает чисто внешнюю позицию по отношению к исследуемому им объекту, а опосредованно, через возможное мышление этого объекта. Именно в этом и состоит принципиальное отличие философии от науки: если первая вопрошает о том, как можно помыслить что-то, вторая же пытается ответить на вопрос: что это есть? Иными словами, философия имеет дело с вопросами: как что-то есть, как оно возможно? Наука же - что это есть? Значит, предмет философии - бытие знания, а наука - непосредственное бытие, бытие мира. Понимаемая таким образом философия оказывается, по сути, метафизикой знания, а наука - онтологией мира 2 . Поскольку философия лишь задается вопросом о том, как можно что-то помыслить, а это может быть мыслимо каждый раз по-новому, по-своему, то она в принципе не дает и не может давать ответы, ее дело только вопрошать. В силу своей проблематичной природы философия не может обладать прочным, окончательным и каким бы то ни было знанием. В этом смысле она есть знание проблематичное и существует до тех пор, пока она вопрошает себя, собственное бытие и бытие как таковое: как они возможны, точнее, как возможно их понимание, что, безусловно, никогда до конца не достижимо, т.е. всегда остается непонятым. Следовательно, игровое, проблемное поле философии - непонимание,
1 Видимо, в языке нет ничего более привычного, чем слово «бытие», «быть», но именно в нем кроется, по словам Ж. Маритена, «величайшая тайна философии». - Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. - М.: РОССПЭН, 2004. - С. 42.
2 Если это действительно так, то не есть ли, говоря словами Хайдеггера, «измерение ценности философии идеей науки» принижением, а стало быть, и искажением ее подлинной сущности?
философия и есть непонимание. Она существует до тех пор, пока есть непонимание. Там, где достигается возможное понимание, завершается философия и начинается наука. А поскольку понимание до конца недостижимо, то у философии нет конца, ее вопросы вечны. Потому философия по своей сути есть постоянное, вечное вопрошание о том, как что-то возможно.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, что поиск философией собственных оснований и есть ее основной вопрос. В этом смысле она может существовать только как трансцендентальная философия, т.е. как обращенная на самую себя, как философия, основным вопросом которой является основной трансцендентальный вопрос: каковы условия возможности нашего мышления? Иными словами, философия есть рефлексия над миром собственного бытия, бытия познания. Соответственно история философии - история становления этой рефлексии.
Как возможно бытие познания, что (в смысле: насколько глубоко человеческая мысль может проникнуть в суть бытия) и как я могу знать - вот, собственно, та осевая проблематика, которая определила весь ход историко-философского процесса. Если попытаться построить определенный алгоритм процесса познания, то его можно представить так: познание начинается с восприятия бытия, которое субъект познания видит таким, каким он его изначально построил в своей голове в соответствии с той культурой, в которую человек включается, входя в мир бытия. Заданная культурой «сеть» априорных знаний набрасывается субъектом познания на мир. С помощью различных логических операций и манипуляций с миром последний «улавливается», попадает в указанную сеть и предстает перед нами таким, каким она ему предписывает быть. Следовательно, определенный тип культуры и задает способ «видения» мира, который изменяется со сменой типа культуры, а сам мир онтологически, объективно был всегда одним и тем же, что для древних греков, что для нас, изменяется лишь его теоретическая конструкция, понимание. А сказать, что собой представляет этот мир как таковой, видимо, всегда останется для человека загадкой, «вещью в себе» и ее никогда объективно не распознать.
Если принять эту схему процесса познания, становится понятным, почему, например, физикам удается делать открытия: они как раз открывают то, что уже заранее ими построено в их головах. Так, сначала была сформулирована теория кварков, а затем в соответствии
с ней стали их искать. И хотя все проводимые до сих пор поиски по обнаружению кварков оказались безуспешными, все же такой подход к научным открытиям не исключает вероятность их открытия в будущем. Также становится понятным, почему, например, современная медицина не всегда лечит человека, по крайней мере, она лечит не всех больных. Как показывают социологические данные, в пятидесяти случаях диагнозы умерших при вскрытиях не подтверждаются. И это естественно, ибо медицина может вылечить только того пациента, у которого действительный недуг совпал с заранее данной врачу теорией болезни и методикой ее лечения. А поскольку каждый человек уникален и неповторим, так же как его организм, то ясно, что излечение болезни есть лишь дело случая: медицина лечит лишь того, чье заболевание вписывается в имеющиеся в арсенале врача теорию и методику. В противном случае пациент обречен на смерть. Та же самая картина вырисовывается и в сфере воспитательной и педагогической деятельности. Воспитатель и педагог могут воспитать и научить лишь того, кто вписался в его методику или, как сегодня принято говорить, в его «педагогические технологии». Безусловно, сколь бы ни была уникальна та или иная педагогическая методика, она не сможет ухватить все многообразие и уникальность человеческой личности. Это значит, что для каждого обучаемого необходима своя индивидуальная оригинальная методика, а общей, единой методики, рассчитанной хотя бы на отдельную группу, быть не может. Более того, она нежелательна, ибо само применение любой методики всегда ограничивает, формализует, а в конечном итоге даже разрушает творческий процесс обучения. Поэтому лучшая методика - никакой методики. В такой ситуации виноваты не ученые и не наука в целом, они сами находятся в ее плену, ибо она складывается объективно и неизбежна. В этом, собственно, и состоит трагедия человеческого познания.
Следует еще раз отметить, что в процессе познания человек не отражает мир, а каждый раз его реконструирует таким, каким «навязывает» ему окружающий мир культура, в которой он живет. Плоды с деревьев падали всегда, но почему-то для наших далеких предков они падали в силу действия какого-то злого духа, а для современного теоретического человека, живущего в мифе науки, - в силу действия закона тяготения. Следовательно, человеческое знание, включая и знание научное, столь субъективно, что не позволяет говорить о его истинности. Оно истинно лишь в той мере, в какой дает возможность человеку чувствовать себя комфортно в окружающем мире. Как только
оно перестает нас удовлетворять, отвечать нашим потребностям, мы от него отказываемся, заменяя его новым «истинным» (именно для нас) знанием. В этом смысле нет и не может быть истины не только абсолютной, но и объективной. Истина, если и существует, то только для меня, только моя истина, которой я следую, покуда она меня устраивает. Верующий человек живет в своем собственном мире веры, который и есть его истина, так же как и человек науки, для которого есть свой мир, своя истина. Для древнего грека эпохи архаики объяснение грома и молнии громыханием колесницы Зевса было столь же несомненным, само собой разумеющимся, как для современных людей, очевидно, их научное объяснение. А если это так, то нет никаких, и прежде всего моральных, оснований ставить под сомнение мир древнего человека, равно как и у будущих поколений не должно быть сомнения в нашем научном мире. И у них, и у нас свой истинный мир.
Такого рода субъективизм человеческого знания фактически уравнивает в правах все возможные мнения и позиции, все они оказываются равнозначными и столь же истинными, как и ошибочными. Нет и не может быть какой-то высшей инстанции, которая могла бы вынести свой окончательный вердикт об истинности или ложности того или иного мнения. Значит, любое мнение оказывается открытым как для истины, так и для критики.
Открытый, погрешимый характер наших знаний требует и соответствующего языка для их выражения. Таким языком может быть только язык возможного, поссибилизма, не допускающий никакого догматизма. Следует, например, формулируя вопрос о сущности человека, вопрошать, не что такое человек, а как он возможен? Как возможно его понимание? Постановка вопроса в такой форме не только допускает, но и требует рассмотрения всего многообразия мнений по данной проблеме, которые с этой точки зрения оказываются равнозначными. И сколь бы ни было много этих мнений, ни одно из них, взятое в отдельности, и все в целом не смогут «ухватить» все бесконечное многообразие бытия. В этом, собственно, и состоит основной гносеологический парадокс, который в сжатой форме можно выразить так: противоречие между конечным разумом и бесконечным в своем качественном проявлении бытием. Поскольку последнее никогда нельзя «втиснуть» в прокрустово ложе конечного разума, в конечное число законов, то ясно, что всегда будет существовать некоторая сфера бытия, которая не может быть объяснена на основе уже известных нам законов. Так, все качественное многообразие физического
макромира вряд ли может быть «втиснуто» в законы ньютоновской механики. Все те явления и процессы, которые не укладываются в уже известные нам законы природы, как правило, выдают ее за чудо. Так появились НЛО, снежный человек, необъяснимые до недавнего времени странные явления в Бермудском треугольнике и т.п. Однако в природе чудес не бывает, в ней все происходит естественно, на то она и есть natura, где все возможно. Если чудеса и происходят, то только в нашей голове, когда мы пытаемся уложить все бесконечное многообразие мира в ограниченное количество законов.
Следовательно, все наши знания о бесконечном, качественно неисчерпаемом бытии оказываются открытыми и безграничными, ограниченными и ошибочными. Это значит, что о нем есть лишь мнение, а не истина. Такого рода взгляд на природу и характер человеческого знания следует назвать философией возможного (критицизма), которой противостоит философия догматизма. Их принципиальное отличие обнаруживается прежде всего в контексте того, что обычно именуют способом философского мышления, а можно назвать это стилем философствования.
1.3. ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И КРИТИЦИЗМ
КАК ДВА СТИЛЯ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
Если «всякая система философии, - по словам Гегеля, - есть философия своей эпохи» 1 , то стиль философствования можно определить как исторически сложившуюся, устойчивую систему философских принципов (философем), методологических правил, норм, идеалов и ценностных установок, задающих мировоззренческие ориентиры философскому сообществу. Из определения видно, что стиль философствования имеет как социокультурный, так и собственно философский смысл, т.е., с одной стороны, он детерминируется типом культуры, с другой - общими философскими принципами (философемами). Определяющей детерминантой в этом взаимодействии выступает в конечном итоге социокультурная ситуация, тип культуры. С их сменой изменяется и стиль философствования. Эта динамика сопровождается становлением новых методологических правил, норм, идеалов, философем и ценностных установок.
1 Гегель Г. Лекции по истории философии. Кн. 1. - СПб.: Наука, 1993. - С. 105.
Однако наряду с этими исторически складывающимися системами в поведении человека наличествуют и такого рода инварианты, традиции, которые прослеживаются на всей исторической линии рефлексивного процесса. Именно универсальный, всеобщий характер этих инвариантов и традиций и определяет, собственно, природу рефлексивной деятельности человека. Роль универсальных, всеобщих инвариантов, традиций может играть стиль философствования. Историко-философская традиция позволяет вычленить в соответствии с рациональной природой философии два основных типа философствования - рациональный и арациональный, которые служат основной антитезой историко-философского процесса.
Рациональное философствование (рациональная рефлексия над миром бытия) находит свое выражение в логическом, осознанном, систематизированном, доступном разуму знании. В таком понимании область рационального выходит далеко за рамки научного разума и в его сферу включается как научное, так и религиозное, и мифологическое, и другое знание. Следовательно, сфера рационального - область выразимого, постижимого, мыслимого; рациональное знание - это знание не только моего «Я», но и знание «другого». Такого рода рефлексия над миром бытия характерна в целом для всей западной традиции философствования.
Арациональный способ философствования включает всякого рода нерациональные способы постижения бытия (иррациональное выступает в данном случае лишь как один из его моментов) и может быть характеризован как некоторый внутренний акт человеческого сознания, внешне никак не выразимый, непостижимый разумом, мысль в данном случае не может стать мыслью «другого». В целом это внутреннее, психическое состояние мысли, неподвластное разуму, логике. Такому состоянию если и можно придать определенную форму знания, то исключительно в форме знания-веры, мыслечувствования. Арациональному стилю философствования следует в основном восточная традиция, особенно в ее ранних формах, и временами эта арациональность «проскальзывает» в западной традиции.
В структуре рационального и арационального стилей философствования можно выделить три основных уровня: онтологический, методологический и аксиологический (ценностный), содержание которых определяется следующим образом.
В рациональном стиле:
На онтологическом уровне - философскими принципами, положениями, основанными на признании разумного (естественного) в качестве первоначала бытия;
На методологическом уровне - комплексом методологических установок, правил и норм, основанных на разумном начале; в зависимости от структурных компонентов здесь можно говорить о трех его основных типах: 1) рационально-теоретическом, основной методологической единицей которого является теория; 2) рационально-эмпирическом, функционирующем на уровне эмпирии (фактов, наблюдений); 3) рационально-интуитивном, методологическое содержание которого определяется интеллектуальной (рациональной) интуицией;
На аксиологическом уровне - разумно-ориентированными ценностями, сложившимися в ходе социокультурного развития человечества.
В арациональном стиле:
На онтологическом уровне - неразумным (не-естественным) началом бытия в форме абсолютного сознания, мирового духа, мировой души, абсолютносущего и т.п.;
На методологическом уровне - комплексом методологических установок и принципов, основанных на нерациональном начале (сюда можно отнести мистическую интуицию, веру, различные догмы, метод доказательства от авторитета и прочие арациональные установки и средства);
На аксиологическом уровне - трансцендентно-ориентированными, безусловными ценностями, которые даны неким абсолютным началом.
Поскольку содержательную сторону философии образует, как было показано выше, поиск ею собственных оснований, небезынтересно рассмотреть, как он осуществлялся в истории философии. Эволюция, которую претерпела проблема обоснования в ходе историко-философского процесса, выразилась от выдвижения ее на центральное место (вся классическая философия - за некоторым исключением, в частности метафизики Б. Паскаля и критической философии Я. Фриза, Фр. Бэкона и Р. Декарта до Г. Гегеля) до критики традиционной ее постановки (Л. Витгенштейн) и полного отказа от нее (К. Поппер). С точки зрения такой полярной в истории философии постановки проблемы обоснования можно выделить соответ-
ственно два основных стиля философствования: фундаменталистский и антифундаменталистский (критицистский). В европейской традиции оба восходят к древним грекам.
Фундаменталистский способ философствования берет свое начало от философа-досократика Парменида 1 , который первым в европейской культуре выступил с требованием достаточного обоснования, определившим греческий смысл понимания науки. Но наиболее полно это требование нашло свое выражение в аристотелевском идеале науки, зиждящемся на принципе достаточного основания. Содержание его образуют два следующих момента:
1. «Архимедова опорная точка» познания (Х. Альберт), фундамент, привилегированная инстанция как критерий достоверности и надежности человеческого знания;
2. Процесс обоснования, содержанием которого является сведение определенного утверждения, теории к достоверному фундаменту - абсолютному принципу, постулату, аксиоме, догме, т.е. к «ясным» и «самоочевидным вещам», типа понятий «движение», «время», «масса», «сила» и т.п., которыми человек оперирует в своей повседневной жизни. (Однако такого рода «самоочевидности» оказываются на деле не столь «самоочевидными». Напротив, они не только неочевидны и непонятны, но даже и немыслимы, на что обратил внимание философ-досократик Зенон Элейский в своих так называемых «апориях».)
Но последовательное применение на практике принципа достаточного основания приводит к целому ряду трудностей. Пользующийся этим принципом исследователь в конечном итоге оказывается в той ситуации, в которую однажды попал знаменитый барон Мюнхгаузен, пытаясь вытащить себя из болота за собственные волосы. Если требование обоснования относится ко всему, оно затрагивает и то знание, к которому сводится подлежащая обоснованию точка зрения. Это ведет к ситуации, с которой уже столкнулся упомянутый философкантианец Я. Фриз, с тремя неприемлемыми альтернативами, т.е. к трилемме, названной современным немецким философом-попперианцем Х. Альбертом «трилеммой Мюнхгаузена». В этой ситуации, очевидно, имеет место выбор между: 1) регрессом в бесконечность, который вызван необходимостью при поиске оснований возвращать-
Фундаментализм находит свое выражение в парменидовском «пути истины». Но с именем Парменида связана и другая, прямо противоположная традиция - фаллибилизма и критицизма, составляющие ядро «пути мнения».
Так как из этих трех альтернатив неприемлемы ни инфинитный регресс, ни логический круг, то в классической традиции предпочтение отдавалось третьей возможности. Этот третий путь и есть путь фундаментализма, суть которого сводится к тому, что вводят догмы или ссылаются на авторитеты, которые якобы претендуют на «иммунитет от критики» и не нуждаются в обосновании, ибо их истина очевидна и потому не может быть поставлена под сомнение. Именно на таких аксиоматических положениях и базируются фундаментальные человеческие знания. К примеру, в биологии такой аксиомой можно считать утверждение «все живое - смертно», в геометрии - «две параллельные прямые никогда не пересекутся», в философии - «ничто из ничего не возникает», «материя - первична» для материалистов, «сознание - первично» для идеалистов и т.п. Подобные положения настолько якобы очевидны, что их даже не пытаются доказывать. И это - правильная позиция, поскольку они в принципе недоказуемы, приходится принимать их на веру. Но стоит лишь на миг сделать эти аксиомы предметом своей мысли, как оказывается, что они не только неочевидны, но и немыслимы, т.е. их очевидность, а следовательно, и истинность является чисто условной, принятой по соглашению (конвенционально). Поэтому третий путь - путь фундаментализма - это волевой (произвольный) акт, выходящий за когнитивные рамки, т.е. основания знания ищутся за пределами самого знания. Хорошей иллюстрацией фундаменталистского мышления может служить стиль философствования и образ жизни средневекового человека, пронизанные сакральными авторитетами, традициями и различного рода табу. В эпоху позднего Ренессанса в связи с изменением общей культурной ситуации и прежде всего под влиянием Реформации произошла смена авторитетов: на место средневековых выступили авторитеты естественного порядка - разум (в классическом рационализме) и природа (опыт в классическом эмпиризме).
Описанный выше перерыв в процессе обоснования действительно был в познании и жизнедеятельности человека. Несмотря на то что в
Подробнее о трилемме Мюнхгаузена см.: Albert H. Traktat iiber kritische Vernunft. - Tubingen, 1969. (Русский пер.: Альберт Х. Трактат о критическом разуме. - М.: Едиториал УРСС, 2003).
его основе лежит волевой акт, тем не менее он необходимо обусловлен, поскольку оказывается единственно возможным. Отказ от него ведет homo sapiens в никуда. Но не следует забывать, что в конечном итоге за ним стоят принятые на веру, по соглашению, необоснованные, ненадежные знания. А если это так, то и все полученные на их основе знания также будут ненадежны, погрешимы. Таким же ненадежным, шатким оказывается и построенное на таких знаниях здание человеческой культуры.
Для справедливости следует заметить, что перерыв в процессе обоснования не является совершенно (абсолютно) произвольным, он вызван волевым решением определенного научного сообщества, как это иногда принято считать 1 . На самом деле перерыв в процессе обоснования, в частности в науке, обусловлен особенностями исследуемого предмета, уровнем и характером развития науки, ее границами. Рассмотрим это на примере из области физического знания.
Как известно, в классической физике наибольшую обоснованность и «самоочевидность» имели основные положения, принципы и законы ньютоновской механики, область применения которых отнюдь не ограничивалась лишь одной физической реальностью (вспомним хотя бы эволюционное учение Г. Спенсера). Однако дальнейшее развитие физики, и прежде всего имевшая место на рубеже XIX-XX вв. революция в ней раздвинула границы физической реальности (с открытием мира элементарных частиц), поставив на первый план вопрос о статусе и области применения ньютоновской механики, об обоснованности тех основных положений и принципов классической науки, в незыблемости которых никто до сих пор не сомневался. Результатом всего этого стало «снятие» прежних ограничений и соответствующее их расширение или сужение. Например, положение классической физики, что масса есть величина постоянная, разумеется, остается, как и прежде, истинным, но при одном условии: оно истинно лишь в рамках классической механики и переносить его на область микро- и мегамира неправомерно.
Из этого следует: во-первых, что принятие в той или иной области данного конкретного положения в качестве «абсолютно» обоснованного, «надежного» - не прихоть отдельного человека (или даже определенного научного сообщества), а является рационально обос-
На абсолютную произвольность этого акта указывают Х. Альберт и Г. Динглер. См. об этом: Albert H. Указ. соч.; Dingier H. Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie. - Miinchen, 1923.
нованным ограничением, обусловленным определенными внешними по отношению к человеку (или сообществу) факторами; во-вторых, что принимаемые в качестве «абсолютно» обоснованных те или иные положения не могут быть неизменными, не допускающими никакой корректировки или критики.
Фундаментализм оставался господствующей традицией в классической и современной культуре вплоть до ХХ в. Но в последнее время в связи с изменением общей культурной ситуации, и прежде всего в науке, устои фундаментализма были подорваны. Традиционная апелляция к разуму и опыту оказалась совершенно недостаточной в духовной атмосфере западной культуры ХХ столетия, развенчавшей многовековой культ разума. Обнаружилось, что человеческий разум слишком изменчив, погрешим, чтобы быть надежным фундаментом человеческой культуры. Вероятно, такого фундамента в природе и не существует: ни разум, ни вера, никакая другая категория не вправе претендовать на Абсолют, не могут исчерпать собой все многообразие и бесконечность человеческого бытия. Этим, по-видимому, объясняется выдвижение сегодня на передний план антифундаменталистской (критицистской) парадигмы.
Кроме того, волнующие сегодня земную цивилизацию проблемы человеческого бытия, в частности, так называемые глобальные проблемы, да и некоторые наши насущные внутренние: возрождение отечественной культуры и духовности, трудности, с которыми столкнулось общество в столь драматичную эпоху в начале XXI в., делают все более ощутимой необходимость развития всеобщего критицизма. Сам факт зарождения критицистского (фаллибилистского) стиля мышления в досократовской Древней Греции одновременно с рождением философского сознания, когда был осуществлен фундаментальный духовный переворот в нашей европейской культуре - переход, как принято выражаться, «от мифа к логосу», говорит об изначальной критицистской (фаллибилистской) природе философского мышления. Другое дело, что в силу социокультурных, исторических и иных обстоятельств она не всегда могла выражать себя в полной мере, отодвигаемая на задний план своим антиподом - фундаменталистским стилем философствования.
Постмодернистская социокультурная ситуация не только поставила под сомнение господствовавший до сих пор в европейской культуре способ философствования, определяемый научным разумом, но и выдвинула перед философским и методологическим сооб-
ществом задачу развития и распространения критицистского стиля философствования, наиболее полно отвечающего методологическим и философским запросам современной культуры. Поэтому утверждать, что подобно тому, как ньютоновская методология вполне соответствовала методологическому сознанию европейской классической культуры, а эйнштейновская физика отвечала методологическим запросам философского и научного мышления первой половины ХХ в., методология критицизма отвечает всем запросам постмодернистской культуры. Все это дает основания считать теоретико-познавательные и методологические установки критицизма фундаментом не только современного научного разума, но и постмодернистского образа жизни, являющегося, по существу, критичес- ким, точнее критицистским. В нем находит свое выражение основная онтологическая установка критицизма, которую можно было бы, перефразируя знаменитый принцип Декарта «cogito ergo sum», сформулировать так: «Я критикую, значит, существую». В данном случае под словом «критикую» понимается некоторый внутренний настрой человека, содержание которого определяется актом сомнения пирсовско-декартовско-попперовского толка. Это значит, что речь идет о фактическом, психологическом сомнении пирсовского типа, которое, в свою очередь, служит толчком к теоретическому сомнению декартова типа, трансформирующемуся затем в сомнение попперовского типа. Последнее выражается в постоянном выдвижении предположений и их опровержении, иными словами, в непрерывном конструировании и критике. И чем активнее, динамичнее осуществляется этот процесс, тем действительнее человеческая экзистенция.
Таким образом, основная онтологическая установка критицизма выражает достаточно простой и очевидный факт, что ко всему следует относиться с определенной долей скепсиса, творчески, т.е. критически. К этому, собственно, и сводится методология критицизма, которая в силу своего широкого распространения может считаться универсальным методологическим средством постмодернистского бытия человека.
Однако этот вывод может показаться слишком категоричным. Бесспорно, какой бы совершенной ни была бы та или иная методология, какими бы она достоинствами ни обладала, она не может претендовать на статус универсальной, ибо ни одна методология не может исчерпать все то бесконечное многообразие методологических
установок, диктуемых не менее разнообразным окружающим нас миром бытия, культуры и человека. В этом смысле критицизм как универсальная методология и образ жизни - лишь одна из бесконечного множества других возможных методологических установок, на основе которых и становится реальным «соприкосновение» с таинственным миром бытия. Впрочем, эта мысль с логической необходимостью диктуется самой методологией критицизма. Но поскольку мир человеческого бытия и культуры историчен, то на различных этапах его существования ему соответствуют определенный уровень и стиль методологического сознания. Мне представляется, что современному типу культуры, сформировавшемуся во второй половине ХХ в., более всего отвечает критицистский и фаллибилистский стиль философствования. Можно предположить, что в будущем философское и методологическое сознание во многом будет определяться именно критицистским «настроем» нашего мышления. Об этом уже свидетельствуют многочисленные факты глубокого проникновения этого стиля мышления во все большее число сфер человеческой жизнедеятельности: от науки и искусства до нашего обыденного бытия 1 . В этом нет ничего удивительного, потому что, как уже отмечалось, такие способ мышления и образ жизни вполне согласуются с природой человеческого сознания, которая, начиная со второй половины XX столетия, заявила о себе в полной мере.
Можно даже сказать, что критицистский стиль мышления диктуется самим ходом развития европейской культуры: чем более развита культура, тем менее всего она подвержена всякого рода догматизациям и абсолютизациям, давая тем самым более широкие возможности для свободного, творческого мышления. И подобно тому, как грекам удалось преодолеть догматизм прежних форм мышления - мифологического и религиозного, на долю наших современников выпала честь преодолеть догматизм научного разума и утвердить новый культурно-исторический тип рациональности, выходящий далеко за рамки научного разума и открывающий путь всевозможным формам мышления. Всеобщая погрешимость человеческого знания делает абсолютно равнозначными и правомерными все известные формы человеческой рефлексии, стирая между ними все границы: отныне научное мышление оказывается ничуть не лучше, но и не хуже, не более, но и не менее рациональным,
См. об этом: Шишков И.З. В поисках новой рациональности: философия критического разума. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - С. 353-357.
чем, например, религиозное, мифологическое или философское. В этом плане рациональной оказывается та форма мышления, которая наиболее адекватно соответствует данной ситуации, является истиной «здесь и сейчас», что вполне согласуется с гуманной и прагматичной природой человека. Иными словами, рациональность включает все то, что делает возможным бытие человека в современном мир 1 .
С позиции постмодернистского типа рациональности все то разумное, что есть в нашем иррациональном мире, оказывается рациональным, например, если миф или религия дают человеку возможность утвердить и реализовать себя в этом мире как личность, то тем самым они нисколько не хуже, но и не лучше научного и философского типов мышления. Следовательно, в рамках данного типа рациональности «снимаются» существовавшие до сих пор между различными формами мышления границы. В этом смысле прав П. Фейерабенд, когда утверждает, что «...наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. .Мифы намного лучше, чем думали о них рационалисты» 2 . Сказанное выше дает основание полагать, что человеческое знание, включая и научное, по своей природе погрешимо, что, собственно и находит, свое выражение во второй философской и методологической традиции - традиции критицизма, или фаллибилизма.
Своими корнями критицистская установка уходит в глубокую древность. Если отвлечься от древневосточной традиции 3 , то в рамках античности критицизм связан с рождением цивилизации греческо-европейского типа, давшей начало греческой культуре. Если
1 Содержание современного культурно-исторического типа рациональности определяется по существу прагматичным характером нашей культуры и самой человеческой природы. Это значит, что разумными (рациональными) могут считаться любые формы знания и деятельности, которые удовлетворяют естественному желанию человека более или менее оптимально ориентироваться и «сносно» жить в нашем турбулентном мире.
2 Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. Избранные труды по методологии науки. - М.: Прогресс, 1986. - С. 450-451.
3 См.: Paul Gregor Rationalitat als Weg zur Humanitat // Lenk H. (hrsg.) Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalitat. - Freiburg, Miinchen, 1986, S. 187-204. - На связь рационального критицизма с древневосточной традицией указывает и Г. Ленк. См. об этом: Lenk H. Kritik der kleinen Vernunft. Einfuhrung in die jokologischen Philosophie. Frankfurt a. M.,1987, S. 121; он же: Zwischen Wissenschaftstheorie und Sozialwissenschaft. - Frankfurt a. M., 1986. - S. 117.
фундаментализм и догматизм в социально-культурном плане можно отнести к стадии мифологически ориентированных доцивилизационных культур общества, то критицизм, по-видимому, можно связать с одним из наивысших типов высоких культур - культурой критики, в ее рамках и осуществилось рождение греческой цивилизации. Его результатом было возникновение греческой философии, которое практически совпадает с рождением науки.
Теоретическую основу критической установки образует идея о невозможности достоверного знания. Этой точке зрения следовал уже философ-досократик Ксенофан Колофонский.
Навеянная мыслью Ксенофана идея открытости человеческого знания стала сквозной у Сократа как второго и наиболее влиятельного представителя критицистской античной традиции. Эта идея со всей очевидностью выражена в знаменитом сократовском принципе: «я знаю, что ничего не знаю», определившем сократический тип мудреца как воплощение истинной философии. Именно в сократовском незнании усматривается прежде всего различие между Сократом-философом и Платоном-софократом, который в отличие от первого является не преданным искателем мудрости, а ее гордым обладателем. Если Сократ подчеркивал, что он не мудр, не обладает истиной, а только ищет ее, исследует и любит (что, собственно, и выражает слово «философ»), то Платон, по сути, определяя философов как людей, любящих истину, вкладывает в слово «философ» совершенно иной смысл. Любящий - уже не просто скромный искатель истины, а гордый ее обладатель. Философ Платона приближается к всезнанию, всемогуществу. Это яркий пример резкого контраста в понимании идеалов философа. Это контраст между двумя мирами - миром скромного, рационального индивидуалиста и миром тоталитарного полубога.
Тем самым Платон отказывается от сократовского учения о незнании и требовании интеллектуальной скромности. Это очевидно, если сравнить сократовское и платоновское учение о правителе. Как Сократ, так и Платон выдвигают требование мудрости правителя. Однако оно трактуется ими совершенно по-разному. У Сократа требование мудрости правителя означает, что правитель должен полностью осознать свое очевидное незнание. Следовательно, Сократ за интеллектуальную скромность. «Познай самого себя» означает для него: «Знай, как мало ты знаешь!»
В отличие от него Платон трактует требование мудрости правителя как требование обладать мудростью (софократией). Лишь осведомлен-
ный диалектик, ученый-философ способен управлять. В этом, видимо, смысл известного платоновского требования, что философы должны стать правителями, а правители - образованными философами.
Это различие в интерпретации известного требования есть, по сути, различие между интеллектуальной скромностью и интеллектуальной надменностью, между фаллибилизмом - признанием ошибочности всего человеческого знания - и сциентизмом, согласно которому авторитет должен приписываться знанию и знающему, науке и ученым, мудрости и мудрецам.
Сократовский тезис о человеческом незнании оказался крайне важным для последующего развития европейской культуры: он произвел своеобразный переворот в эпистемологии, в результате которого со временем обнаружилась полная несостоятельность классического понятия знания как истины и достоверности. Знание отныне есть прежде всего предположительное знание (предположение).
Мысль Ксенофана и Сократа продолжили и философы эллинистической культуры, в частности киники 1 и киренаики 2 , а скептиками она была доведена до абсурда. Вспомним хотя бы ответ Пиррона из Элиды на провоцирующий вопрос: «А не умер ли ты, Пиррон?» Он твердо отвечал: «Не знаю» 3 .
Через античность идея открытости и погрешимости человеческого знания проникла в европейскую классическую философию. Уже Фр. Бэкон своим учением об идолах и элиминативной индукции закладывает основы фаллибилистской методологии, а критическая философия И. Канта и Я. Фриза, методологический плюрализм Б. Паскаля, фаллибилизм Ч. Пирса и антифундаментализм Фр. Ницше 4
1 См.: Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей. - М.:
Наука, 1984.
2 См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М.: Высшая школа,1991. - С. 70.
3 Там же, с. 146.
4 Существование «непосредственной достоверности» типа декартовского «я мыслю», на которой зиждется фундаменталистское методологическое сознание, Ницше считал основным предрассудком философов. Вот что он писал по этому поводу: «Все еще есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверности», например, «я мыслю» или подобно суеверию Шопенгауэра «я хочу»...Но я буду сто раз повторять, что «непосредственная достоверность» точно так же, как «абсолютное познание»...в себе contradictio in adjecto: нужно же наконец когда-нибудь освободиться от словообольщения!» И далее: «Поистине немалую привлекательность каждой.теории составляет то, что она опровержима: именно этим влечет она к себе тонкие умы». - Ницше Фр. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к
философии будущего. Т. 2. - М.: Мысль, 1990. - С. 252-253.
проложили путь к современному фаллибилизму, который наиболее последовательно отстаивал К. Поппер - основатель философии критического рационализма. Он фактически «пробудил» в нашей интеллектуальной среде существовавшую издавна в европейской философии идею о погрешимости человеческого разума.
В русской философской традиции идею открытости и критичности знания проводил Вл. Соловьев, именно на ней базируется его философия всеединства. 1 О философии, избирающей «в удел себе переменную точку зрения» 2 писал П.А. Флоренский, но наиболее глубоко дух критицизма проник в философию «сциентистского анархизма» П.А. Кропоткина 3 и П.Н. Ткачева 4 .
В отличие от классической фундаменталистской традиции картезианского толка, антифундаментализм (критицизм) не допускает никаких догм, более того, он включает необходимость фаллибилизма (погрешимости) в отношении любой возможной инстанции. В то время как фундаментализм возводит определенные инстанции - разум или опыт - в эпистемологические авторитеты и пытается выработать у них «иммунитет от критики», антифундаментализм (критицизм) не признает никаких авторитетов и инстанций непогрешимости, «архимедовых опорных точек» и не допускает догматизации в решении проблем. А это значит, что не существует никаких решений проблем, ни надлежащих инстанций для такого рода решений, которые должны уклоняться от критики. Сами эти решения, по-видимому, должны пониматься как конструкции гипотетического характера, которые могут быть подвергнуты критике и ревизии. Беспрерывный поиск и смена одних решений другими - таков путь движения к истине и прогрессу, таков лейтмотив антифундаментализма (критицизма).
Рассмотренные выше два стиля философствования могут служить основополагающим критерием для типологизации всего историко-
См.: Соловьев В.С. Философские начала цельного знания. Он же: Кризис западной
философии. Т. 2. - М.: Мысль,1990. - С. 139-288.
2 См.: Флоренский П. У водоразделов мысли. Т. 2. - М.: Правда, 1990. - С. 130.
3 См.: Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. - М.: Правда, 1990.
4 Трудно удержаться, чтобы не привести здесь выдержку из «Анархии мысли» П.Н. Ткачева: «Критика - это условие sine qua non (непременное, необходимое - лат.) ее (мысли. - Прим. авт.) правильного развития; она ее питает, укрепляет, одушевляет. Оградите мысль от критики, и она превратится в мертвую догму, не успев вырасти и развиться, она состарится, обесцветится, износится» - Ткачев П.Н. Анархия мысли // Ткачев П.Н. Кладези мудрости российских философов. - М.: Правда, 1990. - С. 176.
философского процесса как противостояния догматизма и критицизма, противостояния, с одной стороны, последователей платоновского типа мудреца, точнее софократа (Декарт, Гегель и другие мыслители), с другой - приверженцев сократовского типа мудреца, воплощающего образ истинного философа (Кант, Ницше, Поппер и др.). В соответствии с этими двумя стилями философствования сложились и два типа языка: язык догматизма, характеризующийся своей закрытостью, абсолютной достоверностью, верой в обладание одной единственной истиной, не допускающей никаких иных мнений, «иммунитетом от критики». К сожалению, на этом языке преимущественно говорила не только философия, но и вся наука в целом, особенно классическая наука. Вспомним хотя бы Ньютона, с абсолютной уверенностью утверждавшего в свое время, что его законы механики и есть как раз тот фундамент, на котором будет стоять здание будущей физики. И какие бы открытия в будущем не последуют, они никак не пошатнут это здание. Но насколько заблуждался в этом великий физик, свидетельствует дальнейшее (после Ньютона) развитие физической науки. На рубеже XIX-XX вв. в ходе очередной революции в физике здание ньютоновской механики было разрушено вместе с его фундаментом. Отныне классическая физика стала рассматриваться лишь как предельный случай неклассической (эйнштейновской) физики.
Этому закрытому, догматическому языку противостоит язык поссибилизма (возможного), фаллибилизма, являющийся открытым для критики, плюралистичным, не претендующим на монополию, тем более на знание истины, допускающий постоянную долю сомнения в своих утверждениях. Этот тип языка, хотя и ведет свое начало в европейской традиции от древних греков (Ксенофана, Сократа), все же в полной мере на нем заговорили только в современной философии в связи с изменением общекультурной и прежде всего научной ситуации. Статус этого языка нашел свое обоснование в современной неклассической физике (физике элементарных частиц), ее здание, если продолжать нашу аналогию, представляет собой высотный дом, этажи которого повисают в воздухе. Наконец-то в современную физику глубоко проникла мысль о невозможности существования какой-то единой теории, которая могла бы стать надежным фундаментом для построения данной раз и навсегда физической картины мира. В силу погрешимости человеческого знания, в том числе и научного, такого абсолютного, незыблемого фундамента в принципе не существует, а потому, как представляется, научным, методологическим и фило-
софским запросам европейской культуры наиболее полно отвечает фаллибилистский (критицистский) стиль мышления.
Фаллибилистским характером нашего мышления определяется общий философский настрой, от которого зависит статус философии в целом. Философия, если и возможна, то только как философия открытого, критицистского, фаллибилистского знания, не только допускающего, но и требующего постоянного выдвижения альтернатив и их опровержения. И пока в философии будет царить этот настрой, она имеет право на существование.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что философия может быть только как трансцендентальная философия, основным вопросом которой является фундаментальный трансцендентальный вопрос: как возможны мысль, мышление? Они, как было доказано выше, возможны только в форме критицистского, фаллибилистского, предположительного знания. В противном случае прогресс научного, философского и в целом человеческого знания невозможен. Открытость и невозможность достоверного, обоснованного знания и есть основной психологический мотив человеческого познания.
Арендный блок
В первом приближении процесс понимания можно описать просто: встречаясь с каким-либо объектом - словом, действием, предметом, - индивид ассоциирует с ним некоторую смысловую единицу из своего индивидуального контекста и, таким образом, интерпретирует его, наделяет смыслом. Если ему это удается, индивид считает, что понял объект. Когда индивид не может интерпретировать объект, наделить его смыслом, он считает, что не понял объект. Вот, к примеру, перед нами объект - довольно увесистая пачка бумаги, переплетенная и покрытая пятнами типографской краски. Мы смотрим и ассоциируем с данным предметом такой смысл: это - книга, у которой есть автор, она несет определенную информацию и т.п., короче говоря, все свои представления о книге. Мы поняли, что представляет собой данный предмет. А вот какой-нибудь абориген Новой Гвинеи может не понять этого, или понять по-своему.
Из того, что в процессе понимания индивид сам приписывает смысл объекту, вовсе не следует, что всякое понимание в равной степени приемлемо. Важно, какой именно смысл приписывается. Интерпретация объекта всегда носит гипотетический характер и может быть пересмотрена. Когда это случается, мы говорим, что не поняли объект или поняли его неправильно. Например, прогуливаясь ночью по дороге, вы можете куст принять за человека и испугаться. Темный предмет на краю дороги вы осмысливаете, интерпретируете - человек! И сразу же начинаете проверять свою интерпретацию, искать ей подтверждение (или опровержение): приближаетесь, всматриваетесь, ждете определенных движений и т.п. Постепенно вы обнаруживаете, что первоначальная интерпретация неверна и отказываетесь от нее. В связи с этим можно вспомнить рассказ Куприна "Ужас", в котором таможенный чиновник встречает на дороге замерзшего купца и принимает его за дьявола. Козлиная бородка, острым углом изломанные брови, саркастическая усмешка на худом, длинном лице - эти традиционные атрибуты образа дьявола подтверждали интерпретацию. Потрясение оказалось настолько сильным, что чиновник весь поседел и едва не умер.
Если же все наличные данные согласуются с нашей интерпретацией, то мы на ней останавливаемся и считаем, что поняли объект. Вполне возможно, что другой человек предложил иную, свою интерпретацию, также согласующуюся с имеющимися данными. Он понимает объект иначе, придает объекту иной смысл. Однако вопрос о том, чье понимание лучше или более правильно, можно обсуждать столь же долго, сколь и бесполезно. Без новых данных ответить на него нельзя.
Теперь обратимся к наиболее интересной и важной проблеме: как возможно взаимопонимание между людьми? Развитая здесь концепция позволяет дать два ответа на этот вопрос: один - более грубый и простой, на уровне индивидуальных контекстов; другой - несколько более тонкий, на уровне смысловых единиц. Первый ответ: взаимопонимание обеспечивается сходством индивидуальных смысловых контекстов. Чем более похожи смысловые контексты двух индивидов, тем легче и лучше они понимают друг друга, ибо придают словам и вещам близкий смысл. Здесь мы можем говорить о следующем диапазоне возможностей:
а) Индивидуальные смысловые контексты двух людей совершенно различные и не имеют ни одного общего элемента. Это означает, что такие индивиды всегда будут придавать словам и вещам разный смысл и взаимопонимание будет равно нулю. Это, конечно, предельный случай, некоторое представление о котором могут дать попытки контактов с мыслящим океаном в "Солярисе" Ст. Лема. Во всяком случае, в земных условиях такое вряд ли возможно.
б) Смысловые контексты двух людей частично совпадают, т.е. имеют некоторые общие элементы. - Именно это чаще всего встречается в жизни. Степень взаимопонимания определяется величиной совпадающей части. Когда индивиды приписывают объектам смысл, обращаясь к общей части их смысловых контекстов, они понимают друг друга; когда же они берут смысловые единицы из несовпадающих частей своих контекстов, взаимопонимание нарушается.
в) Смысловой контекст одного индивида полностью включается в смысловой контекст другого индивида. Тогда индивид с более широким смысловым контекстом вполне понимает индивида с более узким контекстом, но последний не всегда понимает первого. Эта ситуация до некоторой степени моделируется отношениями между родителями и детьми: родитель всегда и вполне понимает слова и поведение своего ребенка, но ребенок часто не может понять поведения и разговоров взрослых.
г) Наконец, последняя возможность: смысловые контексты двух индивидов полностью совпадают. Такие индивиды всегда, во всем и вполне будут понимать друг друга, ибо будут придавать словам, вещам, поступкам один и тот же смысл.
Перечисленные варианты дают некоторое представление о возможностях взаимопонимания, но чрезмерно огрубляют реальные взаимоотношения. В действительности ситуации а), в) и г), по-видимому, не встречаются и представляют собой упрощенные идеализированные схемы. Обогащения этих схем можно достигнуть за счет перехода на уровень смысловых единиц. При этом мы будем говорить не о взаимопонимании вообще, а о взаимопонимании в некоторой конкретной ситуации, относительно отдельных вещей, слов, поступков. Пусть, скажем, два индивида А и В употребляют одно языковое выражение или рассматривают какой-то поступок. Индивид А ассоциирует с данным выражением смысловую единицу, обладающую общими характеристиками О1А, ..., ОКА и индивидуальными характеристиками И1А, ..., ИКА. В то же время, смысловая единица, ассоциируемая В с тем же выражением, в его контексте обладает набором характеристик О1В, ..., ОКВ; И1В, ..., ИКВ. Что при этом может оказаться?
аа) Ни одна из характеристик О1А, ..., ОКА; И1А, ..., И1А не совпадает с характеристиками О1В, ..., ОmВ; И1В, ..., ИnВ. - Эта ситуация вполне реальна. Ясно, что индивидуальные характеристики могут совершенно не совпадать. Но могут не совпадать и общие характеристики. "Полный" социальный смысл выражения может включать как О1А, ..., ОКА; так и О1В, ..., ОmВ, плюс еще некоторые характеристики, не известные ни тому, ни другому. Но один черпал свои знания, скажем, из работ по физике, а другой - из работ по биологии, но в учебник по химии оба не заглядывали. Так и получилось, что смысловые единицы, ассоциируемые А и В с некоторым выражением, оказались совершенно различными. Ясно, что при этом никакого взаимо понимания между А и В относительно данного выражения быть не может. В один и тот же набор знаков они вкладывают совершенно разное содержа ние. Здесь, в сущности, можно говорить об омонимии: употребляя слово "ключ", например, один имеет в виду тот ключ, которым он открывает дверь своей квартиры, а другой - тот родник в лесу, из которого он пил прошлым летом.
бб) Некоторые из характеристик О1А, ..., ОКА совпадают с характеристиками О1В, ..., ОmВ (при полном несовпадении индивидуальных характеристик).
вв) Все общие характеристики смысловых единиц, ассоциируемых индивидами А и В с некоторым языковым выражением, совпадают (при этом же условии, что и в бб).
Эти две ситуации являются, несомненно, наиболее распространенными. Мы учимся, в общем, на одних и тех же контекстах и привыкаем приписывать словам и вещам приблизительно одинаковый смысл. Непонимание появляется лишь тогда, когда речь заходит о различающихся характеристиках ОiА, ..., ОjB. Чем больше таких различающихся характеристик, тем меньше взаимопонимание. Если их нет совсем, то мы имеем полное взаимопонимание на общем, или социальном, уровне.
Конечно, это - взаимопонимание, и в большинстве случаев иного нам и не требуется - в большинстве, но не во всех случаях. Понимать так друг друга могут и совершенно посторонние люди, случайные попутчики на дороге жизни, которым безразлична внутренняя жизнь друг друга. Так понимает вас продавец магазина или работник ЖЭКа, к которому вы пришли за справкой. В обыденной жизни мы даже не называем это взаимопониманием. От подлинного взаимопонимания мы требуем чего-то большего - какой-то духовной близости между людьми. Если такой близости нет, то нет и понимания. Это хорошо показано в одном из рассказов Сомерсета Моэма, в котором речь идет о юноше, уехавшем на острова Океании добиваться общественного положения и богатства. Через несколько лет он встречается со своим бывшим другом, приехавшим узнать, чего ему удалось добиться. Бывшие друзья разговаривают и, по сути дела, не понимают друг друга. То есть, понимают, конечно, но на каком-то "внешнем", если можно так выразиться, уровне, а чуть глубже - полная взаимная глухота.
"Для того ли мы родились на сеет, - рассуждает главный герой перед недоумевающим приятелем, - чтобы спешить на службу, работать час за часом весь день напролет, потом спешить домой, обедать, ехать в театр? Так ли я должен проводить свою молодость? Ведь молодость коротка, Бэйтмэн. А когда состаришься, чего тогда ждать? Утром спешить из дому на службу и работать час за часом весь день напролет, а потом снова спешить домой, обедать, ехать в театр? Если сколачивать состояние, быть может, оно того и стоит, - не знаю, это зависит от характера; ну, а если ты не стремишься к богатству, тогда чего ради? Я большего хочу от жизни, Бэйтмэн. - Что же тогда ты ценишь в жизни? - Боюсь, ты станешь смеяться надо мной. Красоту, правду и доброту"9152.
Собеседников разделяет разное отношение к жизни, к ее ценностям, что и порождает взаимное непонимание.
гг) Некоторые индивидуальные характеристики И1А, ..., И1А совпадают с характеристиками И1B , ..., ИnB. - Это происходит в тех случаях, когда у двух индивидов отношение к вещам и явлениям в значительной степени одинаков. Сходны их жизненные цели, морально-этические нормы, представления о прекрасном и безобразном, вкусы и т.п. Редко, но так бывает, и тогда слово, жест, взгляд, даже молчание другого человека нам столь же понятны, как свои собственные. Правда, из природы индивидуальных характеристик вытекает, что до конца они не могут совпасть, как не могут полностью совпасть жизненный опыт, знания, склонности и вкусы двух разных индивидов. Поэтому сколь бы близки ни были два человека, у каждого на дне души всегда остается осадок, неуловимый для другого. "Полное" взаимопонимание в этом смысле невозможно. Даже один и тот же человек сегодня уже не может вполне понять себя - вчерашнего.
Кратко резюмируем сказанное. Главная мысль состоит в том, что "понять" означает не "усвоить" смысл, а "придать, приписать" его. Основой понимания, т.е. тем источником, который снабжает нас интерпретациями и смыслами, является индивидуальный смысловой контекст, представляющий собой систему взаимосвязанных смысловых единиц. Индивидуальный контекст формируется в результате усвоения индивидом культуры общества и личного жизненного опыта. Поэтому смысловые единицы складываются из характеристик двух видов: общих и индивидуальных. В процессе понимания языковых выражений, актов поведения, вещей мы ассоциируем с ними некоторую смысловую единицу из индивидуального контекста. Взаимопонимание двух индивидов обеспечивается частичным совпадением их индивидуальных контекстов или характеристик тех смысловых единиц, которые они ассоциируют с объектами.
Определенное таким образом понятие понимания может быть включено в методологию как общественных, так и естественных наук.
У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы
Эта тема принадлежит разделу:
Философия науки
Понятие истины в философии науки 20 века. Научная рациональность и истина. Проблемы философии науки с примерами из истории науки и жизни ученых или нашей повседневной жизни.
К данному материалу относятся разделы:
Философия науки как прикладная логика: логический позитивизм
Логико-философские предпосылки концепции
Некоторые гносеологические предпосылки
Модель науки и научного прогресса
Эмпирический базис
Критерии демаркации
Принцип верифицируемости
Ещё никто и никогда не сформулировал безупречного, годного на все времена и всеми признанного определения философии. И это вполне естественно, поскольку с развитием общества и познания меняется предмет интересов философов.
Аристотель утверждал, что философия есть учение о первых началах и принципах мироздания и его познания. Оксфордский словарь 1994 года на стр. 256 утверждает: «философия – учение о наиболее общих абстрактных характеристиках мира и о категориях, на основе которых мы мыслим». Некоторые современники, подражая физикам, шутят: философия – это то, чем занимаются философы. Порой это проблемы, которые граничат с непознанным, не имеют решения или допускают альтернативные решения, которые невозможно выразить количественно и проверить на опыте. Это, разумеется, не даёт нам права уповать на метафизику. Мало того. Как только количественное решение становится возможным – проблема вообще перестаёт быть философской и становится научной.
В этом смысле философия похожа на короля Лира, раздающего своё царство дочерям – наукам и остающегося ни с чем. Философия НЕ является «наукой о наиболее общих законах развития природы общества и мышления», как писали в советских учебниках, по той простой причине, что таких законов нет: Природу изучают естественные науки, общество – комплекс общественных наук, мышление – психология, нейрофизиология, познание – эпистемология, формы мышления и проблемы научного познания изучает логика и методология науки…
Обходя наивное бытовое понимание философии как «разговор за жизнь» при отсутствии каких-либо профессиональных знаний, обходя бессмысленные шаманские заклинания, вроде того что философия есть стремление к Абсолюту и связана «с постижением умозрением сущности мира», обходя клерикализированных «философов», которые послушно отрекаются от рационального познания и отбрасывают философию к тем временам, когда философия была служанкой того или иного идеологического начальства, примем пока следующее рабочее определение:
Философия есть форма самопознания человечеством своей же культуры , смысложизненных проблем и ценностей на основе осмысления всех достигнутых человечеством знаний, что и позволяет искать ответы на вызовы истории и формировать предпосылки, теории и методологию познания и деятельности человека.
Ясно, что ни один человек не может осмыслить все знания. И предпосылки не приходят в философию из «царства абсолютов» или из словесных дискурсов мистиков. Они приходят из реальной земной жизни вида хомо-сапиенс, эволюционирующего в определённой физической и социальной среде, хотя и приобретают статус доопытных, внеэмпирических предпосылок. Некоторые философские категории являются трансцендентальными (но не трансцендентными), с их помощью субъект познания конституирует, организует свой опыт и своё восприятие мира. К ним относятся и категории кантовского «чистого разума» и такие категории как «вещи», «свойства» и «отношения», которые, как и все другие, сформировались в процессе развития человеческого познания и которые ни к какой исторически пройденной метафизике отношения не имеют.
На основе категорий «вещи», «свойства» и «отношения», а также категорий-операторов «определённое», «неопределённое» и «произвольное» советско-русско-украинским философом проф. А.И. Уёмовым (Одесса) и его учениками в конце 20 века была создана параметрическая общая теория систем, которая является формально-логическим аппаратом анализа любых объектов исследования, представленных в качестве системы. Здесь следует заметить, что мир не разделён единожды на системы и не-системы, любой объект можно в тех или иных отношениях представить как систему.
Слово «философия» состоит из двух греческих слов: phileo - любовь и sophia - мудрость. Любомудрие, любовь к мудрости. Мудрости без конкретных знаний не бывает, в противном случае она утонет в мутном болоте витиеватых слов.
Иммануил Кант верно сказал: «Ненавидящего науку ради любви к одной мудрости называют мисологом. Мисология… возникает при отсутствии научных знаний и непременно связанного с этим своего рода тщеславием». Философию называют рефлексивным знанием, поскольку она является формой самопознания, знанием о знании. Философ, по словам Бертрана Рассела, подобен человеку, который, выглянув в форточку, пытается увидеть себя проходящим по улице.
Философия оказывает влияние на развитие общества, создавая различные системы смыслов. Под её влиянием совершались социальные реформы и революции, научные и технологические перевороты, эпохальные открытия и судьбоносные решения. Предмет современной философии - это вся проблематика философских исследований. Это понимание человека, его сознания, нравственных ценностей, понимание доступных человеку методов познания, осознание результатов познания и деятельности, путей развития человечества, его знания, его сфер и границ. Как влияют на эволюцию общества достижения наук, как взаимодействуют человек, общество и природа, что угрожает существованию человечества? Всё это – поле философских исследований. В этом смысле философия – наука. Но есть аспекты в которых философия не может претендовать на статус науки. Зато философские проблемы могут подниматься и в художественной литературе, и в публицистике. Поэтому и говорят порой, что философия не наука, а литература. Размышлизмы через художественные образы.
Философия давно не является служанкой религии, хотя, похоже, некоторые авторы пытаются сегодня сделать её таковой в современной России. Но философия не является и служанкой любой идеологии или политики.
Только тот, кто не знаком с философией, может утверждать, что не наработаны целые пласты достоверного философского знания. Или что её предмет никогда не менялся, или что она занимается болтовнёй и пытается познавать нечто запредельное, как делали работники «Отдела недоступных проблем» НИИЧАВО (Научно-исследовательского института чародейства и волшебства) из весёлой «сказки для научных работников младшего возраста» А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу», которой я увлекался в детстве.
Философия развивается в единстве:
Онтологии как системном и категориальном осмыслении реальности, представленной различными науками, а не мистическими откровениями о «первосущностях» мироздания как думали об онтологии в древности,
Гносеологии, или, лучше сказать, современной эпистемологии - учении о возможностях, формах и способах эволюции нашего знания,
Аксиологии – учении о нравственных и эстетических ценностях, которые создал и которыми руководствуется человек. Причем онтология всегда гносеологизирована, и наоборот. Оценочное влияние на них оказывает аксиология.
Основные разделы философии:
Логика, эпистемология, этика, политическая философия, метафизика (как история возникновения и исчезновения попыток выйти за пределы возможного для человека знания и опыта), философия религии (как осмысление социального феномена религии на основании знаний, полученных светской наукой – религиоведением. Не путать с религиозной философией, богословием и теологией). Отдельно можно рассмотреть современную философию: прагматизм, инструментализм, аналитическую философию от Рассела до Витгенштейна, экзистенциализм. Но все проблемы современной философии можно рассматривать и в основных разделах философии, названных выше.
Лат. «cultura» – возделывание. Система развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, обуславливающих воспроизводство социальной жизни.
И. Кант. Соч., М.: Чоро, 1994. Том 8, С.282.
ПОНИМАНИЕ
ПОНИМАНИЕ
Метод понимания был положен в основу методологии всех общественных наук С. Л. Франком, который подчеркивал, что при изучении общества необходимо “поставить себя на место изучаемых нами участников общения и через внутренний опыт уловить живое содержание общественной жизни - существо стремлений, мотивов, смысл отношений и т. д.” (Франк С. Д. Очерк методологии общественных наук. М., 1922, с. 103). Отношение “я” и “ты” рассматривается франком как внутренней структуры реальности как таковой (Соч. М., 1990, с. 372). В русской философии происходил поиск универсальной коммуникативной структуры, которая способна к пониманию и является онтологической. Такого рода онтологическая структура понимания была найдена в отношении “я” и “ты”, в отношении к Другому (“симфоническая личность” у Л. П. Карсавина; Другого перед лицом Третьего у П. А. Флоренского и др.). В противовес ограничению понимания социальными и гуманитарными науками В. В. Розанов в понимании усматривает универсальную процедуру, присущую всем наукам и ведущую к построению цельного знания (“О понимании”, 1886); в учение о понимании он,включает учения о познающем, о познавании и о познаваемом.
В социологии метод понимания отстаивается в теории социального действия М. Вебера, где понимание рассматривается как целерациональная , фиксирующая регулярности и связи, присущие субъективно осмысленному человеческому поведению. Понимание не противостоит “объяснению”, смысловые интерпретации должны быть проверяемы каузальным объяснением.
Результат понимания - очевидная каузальная . Вебер различает понимание, постигающее средства целерационального действия, и понимание, осуществляющееся благодаря сопереживанию и вчувствованию, переживанию эмоциональных связей. Вторая понимания должна быть рассмотрена как “отклонение” от целерационально сконструированного действия. Метод понимания в социологии рационалистичен и включает в себя: 1) непосредственное понимание смысла действия или высказывания; 2) понимание, объясняющее мотивации и смысловые связи действия в его идеальном типе (целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное и традиционное как типы социального действия).
Возрастание роли понимания в методологии социальных наук связано с рационализацией всей жизни общества, особенно с формально-технической рационализацией (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 495-507, 602-605). Иная трактовка понимания как метода социологии развита А. Шюцем, который, стремясь соединить “понимающую социологию” М. Вебера с анализом “жизненного мира” Э. Гуссерля, рассматривает понимание как спвсоб конституирования смысла из дорефлексивного, жизненного опыта. Акты понимания тождественны, согласно Шютцу, всем интенциональным актам, которые являются интерпретациями собственного субъективного опыта индивида. Понимание связано с интерсубъективностью и всегда приблизительно, поскольку не ограничивается пониманием себя, но включает и понимание другого. Метод понимания в социологии представляет собой понимание субъективных значений, совместимых с первичными типами- конструктами повседневной жизни. Критерии объективности понимания в социологии - выявление логической связности, адекватность и субъективная интерпретация, т. е. соотнесенность научных объяснений с субъективными значениями действий индивидов.
В герменевтической философии понимание трактуется как определяющая характеристика существования человека, как способ бытия человека в мире. Так, М. Хайдеггер, онтологизируя структуры языка, связывает понимание с тем горизонтом, который задается его смыслами, и с фундаментальной настроенностью бытия человека: “Поскольку понимание и философствование не рядовое занятие в числе других, но совершается в основании человеческого бытия, то настроения, из которых вырастают философская захваченность и хватка философских понятий, с необходимостью и всегда суть основные настроения нашего бытия” (Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993, с. 331). Открытость, присущая существованию, выражена в пред-понимании, настроенности, в проектировании себя как возможности. В работе “На путях к языку” Хайдеггер рассматривает язык как горизонт герменевтической онтологии, как ту структуру, которая формирует смыслы (это относится прежде всего к поэтическому языку). Гадамер, продолжая герменевтическую трактовку понимания, подчеркивает обусловленность понимания культурно-историческим контекстом, которая выражена в пред-понимании, в пред-рассудке, в наличии определенных предпосылок и предрасположенностей к пониманию. Понимание рассматривается им не как действие познающего субъекта, свободного от ситуационной укорененности, а как причастность к свершению традиций и преданий, транслирующих смыслы последующим поколениям. Эти представлены прежде всего в языке, а язык оказывается той “универсальной средой, в которой осуществляется понимание” (Гадамер Г. Г. Истина и метод. М., 1988, с. 452-453).