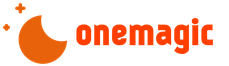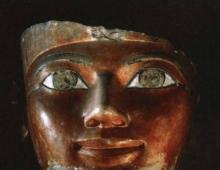Общественно политические взгляды л н толстого. Толстовство – основные идеи. Общественно-полические взгляды Л. Н. Толстого
Общественная деятельность Л.Н. Толстого
-Общественно-политическая деятельность
- Педагогическая деятельность
-взгляды Толстого а образование. Воспитание и школу
Значение русской школы социологии и философии в XIX в.
Общественно-полические взгляды Л. Н. Толстого
Становление общественно-политических взглядов Толстого неразрывно связано с историей России. Начальный период их формирования приходится на 40-50-е годы прошлого столетия. Это было время значительного подъема в духовной жизни России, вызванного небывалым размахом освободительного движения.
Немаловажную роль в становлении общественно-политических взглядов Толстого сыграла Крымская война 1853-1856 гг. Будучи ее непосредственным участником, одним из героических защитников Севастополя, Толстой воочию убедился в полной несостоятельности общественного уклада и всей государственной системы крепостнической России. «Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться»- к такому выводу приходит писатель уже в первые дни Крымской кампании. А оценивая значение войны для судеб русского народа, проницательно замечает: «Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты».
Одна из таких истин, на которую Толстому, как и многим другим, открыла глаза Крымская война, - необходимость ликвидации в России крепостного права. Стремясь принять самое активное участие в решении этой важнейшей для России проблемы, Толстой энергично включается в развернувшуюся вокруг нее во второй половине 50-х годов борьбу. Надо отметить, что, принадлежа по рождению и воспитанию к высшей помещичьей знати, Толстой в названные годы еще не отказался от «привычных взглядов» своей среды. Он не разделяет взглядов революционных демократов по крестьянскому вопросу, считая, что «историческая справедливость» требует сохранения права
собственности на землю за помещиками. Наибольшее одобрение поэтому вызывают у него предложения либерального дворянства, нацеленные на то, чтобы освободить крестьян, не затрагивая основ помещичьего землевладения.
Однако либеральные иллюзии Толстого вскоре развеялись. Первая же попытка применить на практике свой проект освобождения крестьян, даже выгодно отличавшийся от проектов либералов, закончилась провалом. Крестьяне Ясной Поляны, которым Толстой изложил свой план, отвергли все предложения помещика, поскольку он игнорировал их справедливые права на землю. Данное обстоятельство произвело на Толстого сильное впечатление и навело на серьезные размышления о проблемах «освобождения». В результате он приходит к мысли о существовании глубоких противоречий между помещиками и крестьянами, сближаясь в данном вопросе с революционными демократами. Но в отличие от них Толстой не понимал действительной природы общественного антагонизма. Подобно многим просветителям, он пытается объяснить это явление не экономическими факторами, а духовными. Источник всех зол Толстой видит в неравенстве образования. В распространении просвещения среди народов, в «слиянии всех классов в знании науки» заключается, по его мнению, одно из действенных средств преодоления сословной разъединенности.
Занимаясь педагогикой. Толстой всё более и более сближается с крестьянами. Этому способствовала и общеетвенная обстановка в стране.
60-х годах реформы 1861 г. Решался вопрос о дальнейшей судьбе закрепощённой крестьянской массы. Волна общественного возбуждения подхватила и Толстого. Он подписывает докладную записку 105 тульских дворян о необходимости освободить крестьян с земельным наделом. В 1861 г. его избирают на должность мирового посредника, в обязанности которого входило разрешение спорных вопросов между помещиками и крестьянами. Выполняя эти обязанности, Толстой горячо отстаивал интересы крестьян, вызывая недовольство помещиков.
Правительство начало подозрительно следить за его работой, и однажды, в 1862 г., в отсутствие Толстого, в его усадьбе и школе жандармами был произведён обыск. Оскорблённый этим, в порыве возмущения Толстой думал даже совсем уехать из России, где, как ему казалось, «нельзя знать минутой вперёд, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут». Толстой не уехал из России, но письмо это прекрасно характеризует его возмущение порядками царской России.
В области социологии, особенно в истолковании закономерностей общественно-исторического развития, Лев Николаевич утверждает ряд весьма важных и ценных в научном отношении истин. На материалах русской и мировой истории писатель в художественно-наглядной форме показывает движущие силы и определяющие факторы общественно-исторического объективного развития человеческого общества. В своём труде “Философия истории” Толстой рассматривал движение человечества. Он считал, что это движение непрерывно, а следовательно постижение законов этого движения есть цель истории. Но, что бы постигнуть законы непрерывного движения - суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольное, непрерывный единицы Но для изучения законов истории нужно изменить совершенно наблюдения предмет, оставить в покое царей и полководцев, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Предметом истории всегда была жизнь народов и человечества В начале царствования Александра III Толстой обратился к императору с просьбой о помиловании цареубийц в духе евангельского всепрощения. С сентября 1882 за ним устанавливается негласный надзор для выяснения отношений с сектантами; в сентябре 1883 он отказывается от исполнения обязанностей присяжного заседателя, мотивируя отказ несовместимостью со своим религиозным мировоззрением. Тогда же он получил отказ на публичное выступление в связи со смертью Тургенева. Постепенно идеи толстовства начинают проникать в общество. В начале 1885 года в России происходит прецедент отказа от военной службы со ссылкой на религиозные убеждения Толстого. Значительная часть взглядов Толстого не могла получить открытого выражения в России и в полном виде изложена только в заграничных изданиях его религиозно-социальных трактатов.
Социолог и историк М.Ковалевский говорил: «Чтобы понять Толстого, нужно равным образом учесть тот факт, что в России рабочий в городах едва оторвался от плуга и может ещё вернуться в ряды земледельцев, что бывший помещик дворянин, занятый на службе или не занятый на службе едет часто жить в город не потому, что он там привлечен возможностью быть занятым в промышленности или торговле, а потому, что там можно пользоваться преимуществами общества и вести более широкий образ жизни…Что касается его экономического учения, главная идея которого, как он сам констатирует, заимствована из Евангелий, на мой взгляд, показывает лишь, что социальная доктрина Христа, прекрасно приспособленная к простым нравам, сельской и пасторальной жизни Галилеи, не может служить правилом поведения современных цивилизаций, слишком удаленных от этого эмбрионального состояния производства и распределения богатств, которое я назвал порядком непосредственного потребления.»
После того как Толстой выступил против земского движения, Горький,выражаянедовольство своих единомышленников, написал: «Этот человек оказался в плену у своей идеи. Давно уже он отделился от русской жизни и перестал прислушиваться к голосу народа. Он парит слишком высоко над Россией»
2 . Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого.
Педагогическая деятельность Льва Николаевича Толстого (1828-1910) началась с 1849 года, когда он учил грамоте крестьянских детей Ясной Поляны. Более активную педагогическую работу он стал вести с 1859 года, продолжая ее с перерывами до конца своей жизни. По возвращении с Крымской войны он открыл в Ясной Поляне школу и содействовал организации в ближайших селениях еще нескольких крестьянских школ. Толстой вступил, как он сам писал об этом позже, в период «трехлетнего страстного увлечения этим делом». Л. Н. Толстой считал, что наступило время (вспомним, что тогда Россия переживала период первой революционной ситуации и подъема общественно-педагогического движения), когда образованные люди страны должны активно помогать народным массам, испытывавшим огромную потребность в образовании, удовлетворить это их законное стремление, не доверяя столь важного дела царской власти.
В 1860 году Толстой намеревался учредить просветительное общество. Его задача - открытие школ для крестьян, подбор учителей для них, составление курса преподавание и помощь учителям в их работе.
Хорошо понимая, что ему вряд ли добиться официального разрешения на такое объединение общественных сил на дело создания крестьянских школ, Л. Н. Толстой заключал признанием, что он будет «составлять тайное общество». Ему не удалось осуществить полностью свое намерение, но в его яснополянском доме регулярно собирались учителя его школы и соседних крестьянских школ, составившие коллектив единомышленников, сдружившийся для претворения в жизнь прогрессивной педагогики в школах для крестьянских детей. Положительный их опыт освещался в издаваемом писателем в это время журнале «Ясная Поляна», где печатались его статьи о народном образовании, сообщения учителей, предварительно обсужденные на их собраниях под руководством Л. П. Толстого.
Об идейном направлении деятельности учителей сельских школ Крапивенского уезда Тульской губернии, приглашенных на работу Л. Н. Толстым, говорят его статьи по народному образованию, опубликованные в журнале «Ясная Поляна».
Возвратившись весной 1861 года из-за границы, Толстой резко критиковал буржуазную цивилизацию, которая используется помещиками, фабрикантами и банкирами в своекорыстных интересах. Толстой подверг острой критике и современную ему школу, в которой учат тому, что не нужно народу, а требуется тем, кто притесняет и угнетает народные массы.
Яснополянская школа, открытая Толстым в 1859 году, была реорганизована с осени 1861 года. В основу ее работы легло мнение Л. Н. Толстого о свободном и плодотворном творчестве детей при помощи преподавателей. Несмотря на кратковременное существование, работа школы, которую Л. Н. Толстой систематически освещал в своем педагогическом журнале «Ясная Поляна», вызвала живой отклик в России и за рубежом и была примером для подражания. Но такое направление учебно-воспитательной работы сельских школ, устроенных при содействии Л. Н. Толстого, вызвало яростное сопротивление со стороны местных помещиков. Начались нападки на школы, посыпались доносы на учителей.
Летом 1862 года в отсутствие Толстого жандармами был произведен обыск в Яснополянской школе. Это очень оскорбило писателя, а в знак протеста Толстой прекратил свою крайне интересную педагогическую деятельность.
В 1869 году Л. Н. Толстой снова с увлечением занялся педагогикой. В 1872 году была издана составленная Толстым «Азбука», в 1875 году вышли в свет переработанная «Новая азбука» и четыре «Книги для чтения». В это же время он составил учебник арифметики и много занимался методикой первоначального обучения и другими вопросами работы народных школ.
В своей статье 1874 года «О народном образовании» он резко критиковал земства за то, что они сдерживают активность крестьян, которые стремятся сами создать сельские школы, предпочитая их тем, которые открывают земства на средства крестьян, недостаточно учитывая при этом интересы крестьянских масс. И хотя в критике земской деятельности по народному образованию Толстой слишком сгустил темные краски, его выступление в защиту права крестьян иметь свой голос при решении вопроса о воспитании их детей было справедливым.
Он также совершенно правильно критикует извращения в деле наглядного преподавания в земских школах и формализма в начальном обучении в казенных училищах.
Выработав свое представление о содержании и методике работы народных школ, Л. Н. Толстой в 70-е годы выдвигает свою кандидатуру в состав земства Крапивенского уезда. Будучи избранным, он развертывает здесь разнообразную деятельность по созданию земских школ и усовершенствованию их работы. Толстой становится руководителем школ большого уезда.
В 70-х годах Толстой снова стал учить детей в Яснополянском доме, разработал проект крестьянской учительской семинарии, которую шутливо называл «университетом в лаптях». В 1876 году он получил от министерства народного просвещения разрешение открыть семинарию, но, не встретив поддержки со стороны земства, не смог осуществить этого проекта.
Последний период педагогической деятельности Толстого относится к 90-м и 900-м годам. Толстой в этот период в основу воспитания ставил свою «толстовскую» религию - признание, что человек носит бога «в самом себе», всеобщую любовь к людям, всепрощение, смирение, непротивление злу насилием, резко отрицательное отношение к обрядовой, церковной религии. Он признает ошибкой свое былое отделение воспитания от образования и считает, что детей не только можно, но и нужно воспитывать (что он отрицал в 60-х годах
Взгляды Л. Н. Толстого на народное образование, воспитание и школу в 60-70-е годы.
В своих многочисленных статьях этого времени по вопросам народного образования, о содержании и методах учебно-воспитательной работы школы Л. Н. Толстой сформулировал оригинальное учение о воспитании и обучении детей.
Свои представления о том, кто имеет право и должен создавать школы для народа и как в них следует воспитывать и учить детей, Толстой изложил еще в своих первых статьях, опубликованных в 1859-1862 годах в журнале «Ясная Поляна». Статьи вызвали огромный интерес и оживленную полемику оригинальной постановкой вопросов и особенно предложением о способах их решения.
Л. Н. Толстой отверг широко бытующий тогда предрассудок, будто бы народ по своей темноте и невежеству не понимает важности образования, и потому его следует принуждать учиться в даруемых царской властью и образованным обществом школах. Как и Н. Г. Чернышевский, Толстой считал, что нежелание крестьян отдавать своих детей в школы объясняется антинародной направленностью политики царизма в области народного образования.
Л. Н. Толстой убежденно заявил, что народ, находящийся по воле господствующих классов в тягчайших условиях, тем не менее стремится к образованию и что такое его стремление, особенно заметное в 60-е годы, составляет естественную и вечную народную потребность. Доказывая это, Толстой обращался и к своему опыту по организации сельских школ в Крапивенском уезде: население уезда быстро преодолело недоверие к новому начинанию и охотно помогало в открытии школ, которые быстро наполнились крестьянскими детьми.
Не может быть сомнений в том, что народ признает школы своим делом, если они будут отвечать его потребностям и интересам, а сам народ привлечен к организации школ. Одна из статей Л. Н. Толстого на эти темы имела характерное название «О свободном возникновении и развитии школ в народе». В статье автор доказывал, что отсутствие насилия при организации народного образования и есть тот путь, идя которым «дело народного образования найдет себе в народе не врага, а помощника и... безостановочно поведет общество к вечной цели совершенствования».
На основе этих рассуждений Толстой сформулировал такое правило: «Критериум педагогики - свобода», что послужило основанием к обвинению его в подражании Руссо и пропаганде идей «свободного воспитания».
С огромной болью, полный сострадания к народу и его детям, Л. Н. Толстой признается в основных мотивах, заставляющих его заниматься педагогической деятельностью.
«Когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей... И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях.
свидетельствуют его литературные произведения, вся его педагогическая деятельность. По словам Н. К. Крупской, «душу ребенка умел видеть Толстой: и душу Анютки из «Власти тьмы», и душу Сережи из «Анны Карениной», и душу Коленьки Иртеньева, и душу яснополянских ребят».
Толстой умел заинтересовать детей, пробуждать и развивать их творчество, помогать им самостоятельно мыслить и глубоко чувствовать. Он беззаветно увлекался педагогической работой, непрерывно искал и требовал, чтобы каждая школа была своего рода педагогической лабораторией. Такой лабораторией, экспериментальной школой была в 1861-1862 годах Яснополянская школа.
Гениальный русский писатель Л.Н. Толстой (1828-1910) проявил себя не только в области художественного творчества, по, в частности, и в области социологии. Главная особенность его социально-политических взглядов заключалась в приоритете нравственных ценностей.
Толстой дал уничтожающую критику авторитарного режима дореволюционной России, точность и глубина оценок которой вполне заслуживают того, чтобы его называли не только гениальным писателем, но и выдающимся ученым. Л.Н. Толстой писал, что существуют два класса, которые он назвал насилующим и насилуемым. Представители правящего класса, имея много денег и собственности, заставляют работать на себя, применяя три различных способа насилия: личное, захват земли и производимого продукта и денежное. Эти способы не сменяют друг друга в истории, как но схеме К. Маркса феодальное общество сменяет рабовладельческое и само заменяется капиталистическим, а сосуществуют. Способ порабощения физического действует в армии, и миллионы солдат - фактически рабы тех, кто ими управляет. Порабощение отнятием земли тоже налицо. «Мы на нашей памяти, - пишет Толстой, - пережили в России два перехода рабства из одной формы в другую: когда освободили крепостных и помещикам оставляли права на большую часть земли, помещики боялись, что власть их над их рабами ускользнет от них; но опыт показал, что им нужно было только выпустить из рук старую цепь личного рабства и перехватить другую - поземельную» .
Многие тогда не поняли, почему царь-освободитель дал крестьянам волю, а землю у них отобрал. Думали даже, что здесь какая-то ошибка, и ждали, что землю отдадут. Этого не произошло. Почему, Толстой объясняет с помощью весьма методологически плодотворного образного представления о трех винтах. «Все три способа можно сравнить с винтами, прижимающими ту доску, которая наложена на рабочих и давит их. Коренной, основной средний винт, без которого не могут держаться и другие винты, тот, который завинчивается первый и никогда не отпускается, - эго винт личного рабства, порабощения одних людей другими посредством угрозы убийства мечом; второй винт, завинчивающийся уже после первого, - порабощение людей отнятием земли и запасов пищи - отнятие, поддерживаемое личной угрозой убийства; и третий винт - это порабощение людей посредством требования денежных знаков, которых у них нет, поддерживаемое тоже угрозой убийства» .
Правящий класс перешел от показавшегося ему малоэффективным феодального насилия к представившемуся более перспективным капиталистическому. Один винт ослабили, другой ту г же подтянули под усыпляющие разговоры о свободе, гласности и т.п., которые оказались столь же удачной наживкой, как и обещания всеобщего счастья, освобождения труда и т.д.
Все происходящее описано Толстым со всей силой его таланта. Государство, переходя к денежной форме рабства, говорит: «Между собой распоряжайтесь, как хотите, но знайте, что я не буду защищать и отстаивать ни вдов, ни сирот, ни больных, ни старых, ни погорелых; я буду защищать только правильность обращения этих денежных знаков. Прав будет передо мной и будет отстаиваться мною только тот, кто правильно подает мне, сообразно требованию, установленное количество денежных знаков. А как они приобретены - мне все равно» .
Деньги и насилие идут рука об руку. «И потому насильник находит более удобным все свои требования чужого труда заявлять деньгами, и деньги для этого только и нужны насильнику» . Выгода насилия посредством денег «состоит для насильника в том: 1) главное, что он уже более не обязан усилиями принуждать рабочих исполнять его волю, а рабочие сами приходят и продаются ему; 2) в том, что меньшее количество людей ускользает от его насилия; невыгоды же для насильника только в том, что он делится при этом способе с большим числом людей. Выгоды для насилуемого при этом способе в том, что насилуемые не подвергаются более грубому насилию, а представляются самим себе и всегда могут надеяться и иногда действительно могут при счастливых условиях перейти из насилуемых в насилующих; невыгоды же их те, что они никогда уже не могут ускользнуть от известной доли насилия» .
Для полного порабощения рабочего необходимы все три винта, но в разные периоды сильнее давит то один, то другой. Их и регулирует власть, предоставив право выбора при голосовании, но ухудшив материальную жизнь большей части населения.
«Последнее же, денежное - податное насилие - самое сильное и главное в настоящее время, получило самое удивительное оправдание: лишение людей их имущества, свободы, всего их блага делается во имя свободы, общего блага. В сущности же оно не что иное, как то же рабство, только безличное» . Толстой ставит вопрос о власти денег, а не об экономических законах, потому что плутократия осуществляется не только экономическими, но и прямыми политическими средствами. Деньги - системный показатель, который не вписывается в рамки политэкономии.
Возможность голосовать отнюдь не препятствует тому, что власть находится в руках олигархии. Обеспечивая власть денег и используя приемы денежного порабощения, она грабит страну и ее обитателей. «Во всех человеческих обществах, где были деньги, как деньги, всегда было насилие сильного и вооруженного над слабым и безоружным... Во всех же известных нам обществах, где есть деньги, они получают значение обмена только потому, что служат средством насилия. И главное значение их не в том, чтобы служить средством обмена, а в том, чтобы служить насилию» .
Выступая против всех форм социальной эксплуатации, Толстой отвергал и революционный способ переустройства общества. Он считал, что это будет само но себе злом и изменит лишь формы эксплуатации да состав насилующего класса. Подлинное преодоление эксплуатации придет в результате подъема уровня нравственности всех слоев общества, возможное не насильственным путем, а путем приобщения к настоящей культуре. Об этом он писал в своей последней статье «Действительное средство» и таковым считал культуру. Тем самым Толстой повторил то, что говорили все великие нравственные учителя человечества.
Толстой внес также выдающийся вклад в социологию искусства, о чем речь пойдет в главе 12.
До 1880 года, и тем, что он написал после, пролегла глубокая пропасть. Но все это написано одним человеком, и многое из того, что поражало и казалось совершенно новым в произведениях позднего Толстого, уже существовало в ранних его сочинениях. Даже в самых первых мы видим поиск рационального смысла жизни; веру в могущество здравого смысла и в собственный разум; презрение к современной цивилизации с ее «искусственным» умножением потребностей; глубоко укоренившееся неуважение к действиям и установлениям государства и общества; великолепное пренебрежение к общепринятым мнениям, как и к «хорошему тону» в науке и литературе; ярко выраженную тенденцию поучать. Но в ранних вещах это было рассыпано и не связано; после же его произошедшего в конце 1870-х гг. «обращения» все было объединено в последовательную доктрину, в учение с догматически разработанными деталями – толстовство . Это учение удивило и отпугнуло многих прежних последователей Толстого. До 1880 г. он если куда и принадлежал, то скорее к консервативному лагерю, а теперь же примкнул к противоположному.
Отец Андрей Ткачев о Льве Толстом
Толстой всегда в основе своей был рационалистом, мыслителем, ставившим разум превыше всех других свойств человеческой души. Но в те времена, когда он писал свои великие романы, его рационализм несколько померк. Философия Войны и мира и Анны Карениной («Человек должен жить так, чтобы доставлять себе и своей семье самое лучшее») – это капитуляция его рационализма перед присущей жизни иррациональностью. Поиски смысла жизни тогда были оставлены. Смыслом жизни казалась сама Жизнь. Величайшая мудрость для Толстого тех лет заключалась в том, чтобы принять не мудрствуя свое место в жизни и мужественно переносить ее невзгоды. Но уже в последней части Анны Карениной ощущается растущая тревога. Именно тогда, когда Толстой ее писал (1876), начался кризис, из которого он вышел пророком нового религиозного и этического учения.
Это учение, толстовство – рационализированное христианство, с которого содраны все традиции и всякий мистицизм. Он отверг личное бессмертие и сосредоточился исключительно на нравственном учении Евангелия. Из нравственного учения Христа в качестве основополагающего принципа, из которого следует все остальное, взяты слова «Не противься злу». Он отверг авторитет Церкви, поддерживающей действия государства, и осудил государство, поддерживающее насилие и принуждение. И Церковь, и государство безнравственны, как и все другие формы организованного принуждения. Осуждение Толстым всех существующих форм принуждения позволяет классифицировать политическую сторону толстовства как анархизм . Осуждение это распространяется на все без исключения государства, и Толстой испытывал к демократическим государствам Запада не больше почтения, чем к русскому самодержавию. Но на практике его анархизм был направлен своим острием против существующего в России режима. Он допускал, что конституция может быть меньшим злом, чем самодержавие (он рекомендовал конституцию в статье Молодой царь , написанной после восшествия на престол Николая II) и нередко обрушивался на те же институты, что радикалы и революционеры.
Портрет Льва Николаевича Толстого. Художник И. Репин, 1901
Отношение его к активным революционерам было двойственным. Он был принципиально против насилия и, соответственно, против политических убийств. Но была разница в его отношении к революционному террору и правительственным репрессиям. Убийство Александра II революционерами в 1881 г. не оставило его безучастным, но он написал письмо с протестом против казни убийц. В сущности Толстой стал великой силой на стороне революции, и революционеры признавали это, со всей почтительностью относясь к «великому старику», хотя и не принимали учения о «непротивлении злу» и презирали толстовцев. Согласие Толстого с социалистами усилило его собственный коммунизм – осуждение частной собственности, особенно земельной. Методы, которые он предлагал для уничтожения зла, были иными (в частности, добровольное отречение от всяких денег и земли), но в своей негативной части его учение в этом вопросе совпадало с социализмом.
Обращение Толстого было в значительной степени реакцией его глубинного рационализма на тот иррационализм, в который он впал в шестидесятые-семидесятые годы. Его метафизику можно сформулировать как отождествление принципа жизни с Разумом. Он, как Сократ , смело отождествляет абсолютное благо с абсолютным знанием. Его любимая фраза – «Разум, т. е. Благо», и в его учении она занимает такое же место, как у Спинозы Deus sive Natura (Бог или [то есть] природа – лат. ). Знание – необходимое основание блага, это знание присуще каждому человеку. Но оно омрачено и задавлено дурным туманом цивилизации и мудрствований. Нужно слушаться только внутреннего голоса своей совести (которую Толстой склонен был отождествить с кантовским Практическим Разумом) и не позволять фальшивым огням человеческого мудрствования (а тут подразумевалась вся цивилизация – искусство, наука, общественные традиции, законы и исторические догматы теологической религии) – сбить тебя с пути.
И все-таки, несмотря на весь свой рационализм, толстовская религия остается в некотором смысле мистической. Правда, он отверг мистицизм, принятый Церковью, отказался принять Бога как личность и с насмешкой говорил о Таинствах (что для каждого верующего является страшнейшим богохульством). И тем не менее, высшим, окончательным авторитетом (как и в каждом случае метафизического рационализма) для него является иррациональная человеческая «совесть». Он сделал все, что мог, чтобы отождествить ее в теории с Разумом. Но мистический daimonion возвращался все снова и снова, и во всех толстовских важнейших поздних сочинениях его «обращение» описывается как переживание мистическое по своей сути. Мистическое – потому что личное и единственное. Это результат тайного откровения, быть может, подготовленного предварительным умственным развитием, но по своей сути, как и всякое мистическое переживание, непередаваемого. У Толстого, как это описано в Исповеди , оно было подготовлено всей предыдущей умственной жизнью. Но все чисто рациональные решения основного вопроса оказались неудовлетворительными, и окончательное разрешение изображается как ряд мистических переживаний, как повторяющиеся вспышки внутреннего света. Цивилизованный человек живет в состоянии несомненного греха. Вопросы о смысле и оправдании возникают у него помимо его воли – из-за страха смерти – и ответ приходит, как луч внутреннего света; таков процесс, который Толстой описывал неоднократно – в Исповеди , в Смерти Ивана Ильича , в Воспоминаниях , в Записках сумасшедшего , в Хозяине и работнике .
Из этого необходимо следует, что истину нельзя проповедовать, что каждый должен открыть ее для себя. Это – учение Исповеди , где цель – не продемонстрировать, но рассказать и «заразить». Однако позднее, когда первоначальный импульс разросся, Толстой стал вести проповедь в логических формах. Сам он никогда не верил в действенность проповеди. Это его ученики, совершенно иного склада люди, превратили толстовство в учение-проповедь и подтолкнули к этому и самого Толстого. В окончательном виде толстовство почти лишилось мистического элемента, и его религия превратилась в эвдемонистическую доктрину – доктрину, основанную на поисках счастья. Человек должен быть добр, потому что это для него единственный способ стать счастливым. В романе Воскресение , написанном тогда, когда толстовское учение уже выкристаллизовалось и стало догматическим, мистический мотив отсутствует и возрождение Нехлюдова – простое приспособление жизни к нравственному закону, с целью освободиться от неприятных реакций собственной совести.
В конце концов Толстой пришел к мысли, что нравственный закон, действующий через посредство совести, является законом в строго научном смысле, подобно закону тяготения или другим законам природы. Это сильно выражено в заимствованной у буддистов идее Кармы, глубокое отличие которой от христианства в том, что Карма действует механически, без всякого вмешательства Божественной благодати, и является непременным следствием греха. Нравственность, в окончательно кристаллизовавшемся толстовстве, есть искусство избегать Кармы или приспособиться к ней. Нравственность Толстого есть нравственность счастья, а также чистоты, но не сострадания. Любовь к Богу, т. е. к нравственному закону в себе, есть первая и единственная добродетель, а милосердие и любовь к ближнему – только следствия. Для святого от толстовства милосердие, т. е. собственно чувство любви, необязательно. Он должен действовать как если бы он любил своих ближних, и это будет означать, что он любит Бога и будет счастлив. Таким образом, толстовство прямо противоположно учению Достоевского . Для Достоевского милосердие, любовь к людям, жалость – высшая добродетель и Бог открывается людям только через жалость и милосердие. Религия Толстого абсолютно эгоистична. В ней нет Бога, кроме нравственного закона внутри человека. Цель добрых дел – нравственный покой. Это помогает нам понять, почему Толстого обвиняли в эпикурействе , люциферизме и в безмерной гордыне, ибо не существует ничего вне Толстого, чему бы он поклонялся.
Толстой всегда был великим рационалистом и его рационализм нашел удовлетворение в великолепно сконструированной системе его религии. Но жив был и иррациональный Толстой под отвердевшей коркой кристаллизовавшейся догмы. Дневники Толстого открывают нам, как трудно ему было жить согласно своему идеалу нравственного счастья. Не считая первых лет, когда он был увлечен первичным мистическим импульсом своего обращения, он никогда не был счастлив в том смысле, в каком хотел. Частично это происходило от того, что жить согласно своей проповеди оказалось для него невозможным, и от того, что семья оказывала его новым идеям постоянное и упрямое сопротивление. Но кроме всего этого в нем всегда жил ветхий Адам . Плотские желания обуревали его до глубокой старости; и никогда его не покидало желание выйти за рамки – желание, которое породило Войну и мир , желание полноты жизни со всеми ее радостями и красотой. Проблески этого мы ловим во всех его писаниях, но этих проблесков мало, потому что он подчинял себя строжайшей дисциплине. Однако у нас есть портрет Толстого в старости, где иррациональный, полнокровный человек предстает перед нами во всей осязаемой жизненности – горьковские Воспоминания о Толстом , гениальный портрет, достойный оригинала.
Толстой - это великий мастер художественного слова и великий мыслитель. Вся его жизнь, его сердце и разум были заняты одним жгучим вопросом, который в той или иной степени наложил свой болезненный отпечаток на все его сочинения. Мы чувствуем его омрачающее присутствие в "Истории моего детства", в "Войне и мире", в "Анне Карениной", пока он окончательно не поглотил его в последние годы его жизни, когда были созданы такие работа, как "Моя вера", "В чем моя вера?", "Что же делать?", "О жизни" и "Крейцерова соната". Тот же самый вопрос горит в сердцах многих людей, особенно среди теософов; это поистине вопрос самой жизни. "В чем смысл, цель человеческой жизни? Каков конечный исход неестественной, извращенной и лживой жизни нашей цивилизации, такой, какая навязана каждому из нас в отдельности? Что мы должны делать, чтобы быть счастливыми, постоянно счастливыми? Как избежать нам кошмара неизбежной смерти?" На эти вечно стоящие вопросы Толстой не дал ответа в своих ранних сочинениях, потому что он сам не нашел его. Но он не мог прекратить бороться, как это сделали миллионы других, более слабых или трусливых натур, не дав ответа, который, по крайней мере, удовлетворил бы его собственное сердце и разум; и в пяти вышеназванных работах содержится такой ответ. Это ответ, которым на самом деле не может удовольствоваться теософ в той форме, в какой его дает Толстой, но в его главной, основополагающей, насущной мысли мы можем найти новый свет, свежую надежду и сильное утешение.
Основные идеи и специфика философской системы
С точки зрения русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого драматизм человеческого бытия состоит в противоречии между неотвратимостью смерти и присущей человеку жаждой бессмертия. Воплощением этого противоречия является вопрос о смысле жизни – вопрос, который можно выразить так: “Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?”. Толстой считает, что жизнь человека наполняется смыслом в той мере, в какой он подчиняет ее исполнению воли Бога, а воля Бога дана нам как закон любви, противостоящий закону насилия. Закон любви полней и точней всего развернут в заповедях Христа. Чтобы спасти себя, свою душу, чтобы придать жизни смысл человек должен перестать делать зло, совершать насилие, перестать раз и навсегда и, прежде всего тогда, когда он сам становится объектом зла и насилия. Не отвечать злом на зло, не противиться злу насилием – такова основа жизнеучения Льва Николаевича Толстого.
По мнению Толстого человек находится в разногласии, разладе с самим собой. В нем как бы живут два человека – внутренний и внешний, из которых первый недоволен тем, что делает второй, а второй не делает того, чего хочет первый. Эта противоречивость, саморазорванность обнаруживается в разных людях с разной степенью остроты, но она присуща им всем. Противоречивый в себе, раздираемый взаимно отрицающими стремлениями, человек обречен на то, чтобы страдать, быть недовольным собой. Человек постоянно стремится преодолеть себя, стать другим.
Однако мало сказать, что человеку свойственно страдать и быть недовольным. Человек сверх того еще знает, что он страдает, и недоволен собой, он не приемлет своего страдательного положения. Его недовольство и страдания удваиваются: к самим страданиям и недовольству добавляется сознание того, что это плохо. Человек не просто стремится стать другим, устранить все, что порождает страдания и чувство недовольства; он стремится стать свободным от страданий. Человек не просто живет, он хочет еще, чтобы его жизнь имела смысл.
Осуществление своих желаний люди связывают с цивилизацией, изменением внешних форм жизни, природной и социальной среды. Предполагается, что человек может освободиться от страдательного положения с помощью науки, искусств, роста экономики, развития техники, создания уютного быта и т. д. Такой ход мыслей, по преимуществу свойственный привилегированным и образованным слоям общества, заимствовал Л. Н. Толстой и руководствовался им в течение первой половины своей сознательной жизни. Однако как раз личный опыт и наблюдения над людьми своего круга убедили его в том, что этот путь является ложным. Чем выше поднимается человек в своих мирских занятиях и увлечениях, чем несметней богатства, глубже познания, тем сильнее душевное беспокойство, недовольство и страдания, от которых он в этих своих занятиях хотел освободиться. Можно подумать, что если активность и прогресс умножают страдания, то бездеятельность будет способствовать их уменьшению. Такое предположение неверно. Причиной страданий является не сам по себе прогресс, а ожидания, которые с ним связываются, та совершенно неоправданная надежда, будто увеличением скорости поездов, повышением урожайности полей можно добиться чего-то еще сверх того, что человек будет быстрее передвигаться и лучше питаться. С этой точки зрения нет большой разницы, делается ли акцент на активность и прогресс или бездеятельность. Ошибочной является сама установка придать человеческой жизни смысл путем изменения ее внешних форм. Эта установка исходит из убеждения, что внутренний человек зависит от внешнего, что состояние души и сознания человека является следствием его положения в мире и среди людей. Но если бы это было так, то между ними с самого начала не возникло бы конфликта.
Словом, материальный и культурный прогресс означают то, что они означают: материальный и культурный прогресс. Они не затрагивают страданий души. Безусловное доказательство этого Толстой усматривает в том, что прогресс обессмысливается, если рассматривать его в перспективе смерти человека. К чему деньги, власть и т. п., к чему вообще стараться, чего-то добиваться, если все неизбежно оканчивается смертью и забвением. “Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман!”.
Вывод о бессмысленности жизни, к которому как будто бы подводит опыт и который подтверждается философской мудростью, является с точки зрения Толстого явно противоречивым логически, чтобы можно было с ним согласиться. Как может разум обосновать бессмысленность жизни, если он сам является порождением жизни? У него нет оснований для такого обоснования. Поэтому в самом утверждении, о бессмысленности жизни содержится его собственное опровержение: человек, который пришел к такому выводу, должен был, прежде всего, свести свои собственные счеты с жизнью, и тогда он не мог бы рассуждать о ее бессмысленности, если же он рассуждает о бессмысленности жизни и тем самым продолжает жить жизнью, которая хуже смерти, значит, в действительности она не такая бессмысленная и плохая, как об этом говорится. Далее, вывод о бессмысленности жизни означает, что человек способен ставить цели, которые не может осуществить, и формулировать вопросы, на которые не может ответить. Но разве эти цели и вопросы ставятся не тем же самым человеком? И если у него нет сил реализовать их, то откуда у него взялись силы поставить их? Не менее убедительно возражение Толстого: если жизнь бессмысленна, то как же жили и живут миллионы и миллионы людей, все человечество? И раз они живут, радуются жизни и продолжают жить, значит, они находят в ней какой-то важный смысл? Какой?
Не удовлетворенный отрицательным решением вопроса о смысле жизни, Л. Н. Толстой обратился к духовному опыту простых людей, живущих собственным трудом, опыту народа.
Простые люди хорошо знакомы с вопросом о смысле жизни, в котором для них нет никакой трудности, никакой загадки. Они знают, что надо жить по закону божьему и жить так, чтобы не погубить свою душу.
Они знают о своем материальном ничтожестве, но оно их не пугает, ибо остается душа, связанная с Богом. Малообразованность этих людей, отсутствие у них философских и научных познаний не препятствует пониманию истины жизни, скорее наоборот, помогает. Странным образом оказалось, что невежественные, полные предрассудков крестьяне сознают всю глубину вопроса о смысле жизни, они понимают, что их спрашивают о вечном, неумирающем значении их жизни и о том, не боятся ли они предстоящей смерти.
Вслушиваясь в слова простых людей, вглядываясь в их жизнь, Толстой пришел к заключению, что их устами глаголет истина. Они поняли вопрос о смысле жизни глубже, точнее, чем все величайшие мыслители и философы.
Вопрос о смысле жизни есть вопрос о соотношении конечного и бесконечного в ней, то есть о том, имеет ли конечная жизнь вечное, неуничтожимое значение и если да, то в чем оно состоит? Есть ли в ней что-либо бессмертное? Если бы конечная жизнь человека заключала свой смысл в себе, то не было бы самого этого вопроса. “Для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному”, надо выявить отношение одного к другому. Следовательно, вопрос о смысле жизни шире охвата логического знания, он требует выхода за рамки той области, которая подвластна разуму. “Нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос”, – пишет Толстой. Приходилось признать, что “у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить”.
Наблюдения над жизненным опытом простых людей, которым свойственно осмысленное отношение к собственной жизни при ясном понимании ее ничтожности, и правильно понятая логика самого вопроса о смысле жизни подводят Толстого к одному и тому же выводу о том, что вопрос о смысле жизни есть вопрос веры, а не знания. В философии Толстого понятие веры имеет особое содержание, не совпадающее с традиционным.
Это – не осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. “Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам”. “Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни”. Из этих определений становится понятным, что для Толстого жизнь, имеющая смысл, и жизнь, основанная на вере, есть одно и то же.
Понятие веры в толстовском понимании совершенно не связано с непостижимыми тайнами, неправдоподобно чудесными, превращениями и иными предрассудками. Более того, оно вовсе не означает, будто человеческое познание имеет какой-либо иной инструментарий, помимо разума, основанного на опыте и подчиненного строгим законам логики. Характеризуя особенность знания веры, Толстой пишет: “Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно-необъяснимому, я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить”. Толстой не признавал бездоказательного знания. Он не принимал ничего на веру, кроме самой веры. Вера как сила жизни выходит за пределы компетенции разума. В этом смысле понятие веры есть проявление честности разума, который не хочет брать на себя больше того, что может. Из такого понимания веры вытекает, что за вопросом о смысле жизни скрыто сомнение и смятение. Смысл жизни становится вопросом тогда, когда жизнь лишается смысла. “Я понял, – пишет Толстой, – что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее”. Растерянное вопрошание о том, ради чего жить, – верный признак того, что жизнь является неправильной. Из произведений написанных Толстым вытекает один-единственный вывод: смысл жизни не может заключаться в том, что умирает вместе со смертью человека. Это значит: он не может заключаться в жизни для себя, как и в жизни для других людей, ибо и они умирают, как и в жизни для человечества, ибо и оно не вечно. “Жизнь для себя не может иметь никакого смысла... Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни”.
- 343.50 КбВ 60-е годы со всей остротой обнаруживается противоречивость общественно-политических взглядов мыслителя вследствие того, что он все более переходит на патриархально-крестьянскую точку зрения. С одной стороны, Толстой отрицал частную поземельную собственность, которая, будучи средневековой формой землевладения, мешала дальнейшему развитию страны и потому неизбежно подлежала разрушению. Но, с другой стороны, для Толстого решительно неприемлем и капитализм. В противовес либералам-западникам он утверждал, что его развитие несет лишь новые бедствия народным массам, односторонне рассматривая буржуазный прогресс только как новую форму угнетения и эксплуатации. Начиная с 60-х годов, осуждение капитализма переходит у Толстого в непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения его обличение, которое как нельзя ярче отражало психологию крестьянства в период утверждения буржуазных отношений.
Обнаружившиеся в 60-е годы расхождения Толстого с идеологическими позициями класса, к которому он «по рождению и воспитанию принадлежал», еще более обостряются в процессе его дальнейших наблюдений над пореформенной действительностью. Размышляя над происходящими в стране событиями, он верно улавливает их связь с общим положением дел в России. «Засуличевское дело не шутка, - высказывает, например, Толстой свое мнение о процессе над стреляв шей в петербургского градоначальника Трепова В. Засулич. - Это первые члены из ряда, еще нам непонятного, но это дело важное... это похоже на предвозвестие революции».
Все более убеждаясь в том, что Россия «на краю большого пере ворота», Толстой приходит к решительному осуждению эксплуататорского строя, к окончательному разрыву со своим классом. «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне...», - писал он в «Исповеди». Порвав со всеми взглядами, привычками и традициями дворянской среды, Толстой провозгласил своим идеалом «жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей». С этого момента защита экономических и политических прав и интересов русского крестьянства становится основным содержанием всей его многогранной деятельности.
Таким образом, переход Толстого на идейные позиции патриархального крестьянства обусловлен отнюдь не поисками религиозной гармонии или «религиозного обновления», как считают многие буржуазные исследователи, а осознанием общности политических целей и общественных идеалов. В. И. Ленин, определяя действительные причины «перелома» в мировоззрении Толстого, указывал, что они своими корнями уходят в народное движение в стране и органически связаны с нараставшим протестом русской патриархальной деревни против наступления капитала. «Острая ломка всех „старых устоев" деревенской России, - писал он в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», - обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания».
В начале 80-х годов завершилась перестройка всей системы общественно-политических взглядов Толстого. Теперь в ней получили свое идеологическое оформление стихийные настроения и чаяния широких масс русского патриархального крестьянства. Отбросив прежнюю наивную веру в возможность союза барина с мужиком, Толстой, буквально «обрушился» со страстной критикой «на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь».
2.2. Отношение Толстого к государству и власти
В 1866 г., когда Толстой писал вторую половину романа, посвященную войне
1812 г., произошел случай, сыгравший важнейшую роль в развитии мировоззрения писателя. В июне этого года Толстому сообщили, что по приказу Александра II был отдан под военно-полевой суд рядовой Василий Шабунин, ударивший своего командира. Шабунину грозила смертная казнь. Толстой выступил на суде защитником Шабунина, а после приговора ходатайствовал перед царем о помиловании осужденного. Ходатайство не возымело действия - в августе 1866 г. Шабунин был казнен. "Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей... На этом случае я в первый раз почувствовал, первое - что каждое насилие предполагает убийство или угрозу его... Второе - то, что государственное устройство, немыслимое без убийства, несовместимо с христианством", - писал Толстой впоследствии П. Бирюкову, тому самому человеку, которому он сообщал о двух моментах жизни, определивших его отношение к власти и государству: написание "Войны и мира" и казнь народовольцев. Учтем, что в 1881 г. Толстой вновь повторил попытку спасти людей от смертной казни - и вновь, как и в 1866 г., попытка эта оказалась безуспешной.
Но еще до 1881 г. Толстой начал писать сочинение, в котором развил сложившуюся у него после "Войны и мира" идею несовместимости государственной власти с общечеловеческой нравственностью, - "Исповедь". Там он вновь вспомнил Балканскую войну 1876-1878 гг., как одно из событий, приведших к тому, что он осознал безнравственость идеи национального и конфессионального превосходства своего народа и государства: "В то время случилась война в России. И русские во имя христианской любви стали убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились за успехи нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры".
Все то, что Толстой писал впоследствии, в особенности после 1879 г., когда была создана его "Исповедь", было в сущности последовательным развитием идеи несовместимости любой государственной власти с общечеловеческими нравственными законами. Если Достоевский считал Россию носительницей "настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и всех других народах", то Толстой в "Исповеди" заявлял, что представление о превосходстве своего народа и своей веры не имеет никакого обоснования, "кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы".
Свидетельствовали ли выступления Толстого после "Исповеди" против любого
государственного устройства и каких бы то ни было войн об его отказе от взглядов, высказанных в "Войне и мире", - о причинной обусловленности исторического движения, включавшего в себя войны? Так казалось, например, Р. Сэмпсону. Но это не справедливо. И в 90-х годах, и позже Толстой не раз заявлял о неизменности своих воззрений, высказанных в "Войне и мире", и об убеждении, что "правители государства делают только то, что им велит делать предание и окружающие, и участвуют в общем движении".
Протест против "государственного устройства, немыслимого без убийства", патриотического движения и войн, основывался у Толстого на последовательно проведенных нравственных идеях. Идеи эти, выработанные людьми за многие века их истории, не могут быть подчинены каким-либо политическим или национальным целям. В отличие от Достоевского, Толстой был чужд "утопического понимания истории". Массовые движения, такие как движение народов Запада на Восток или ответное движение на Запад, определялись, по его мнению, интегрированием множества индивидуальных стремлений и не подчинялись воле одного лица - правителя и идеолога. Но нравственность остается нравственностью - и человекоубийство не может быть "святым и чистым".
Отвергая всякое целеполагание в истории, Толстой, однако, не мог не думать о том, что способен сделать человек, вовлеченный в исторический процесс. Он признавал свободу собственного выбора человека в истории. В "Войне и мире" Платон Каратаев утешает своих товарищей по плену; Пьер спасает ребенка в горящей Москве. Так же поступает в позднем рассказе Толстого "Ходынка" его герой Емельян: рвавшийся прежде вместе со всеми вперед к гостинцам, он выходит из общего движения, спасая мальчика, попавшего под ноги толпе, и лишившуюся сознания женщину.
Последнее десятилетие жизни Толстого особенно остро поставило перед ним вопрос о том, что может и должен делать человек перед лицом истории.
2.3. Анархизм и доктрина непротивления злу насилием
В произведениях, написанных в 80-х годах и позже, Толстой развивает критику общественного строя, основанного на порабощении большинства меньшинством. В связи с этим он изменяет постановку вопроса о власти. Он не только гораздо подробнее, чем в предшествующих сочинениях, пытается исследовать связь, существующую между властью и насилием. Теперь Толстого занимает не вопрос о власти вообще, но главным образом вопрос о власти государственной, и не о насилии вообще, но о насилии, осуществляемом учреждениями государственными и лицами, представляющими государственную власть.
В работах этого периода Толстой развивает учение этического анархизма. Он отрицает не только государство со всеми его учреждениями и установлениями, не только отвергает всякое насилие, совершаемое государством, но вместе с тем пытается доказать, будто единственным средством радикального уничтожения зла может быть только непротивление злу насилием, то есть полный отказ от насилия как от средства борьбы с насилием.
Анархизм и доктрина непротивления злу насилием - наиболее характерные черты общественных и этических взглядов Толстого. Именно в анархизме и в учении о непротивлении всего сильнее сказалось не раз уже обрисованное в предшествующем изложении противоречие мировоззрения Толстого - противоречие между сильной, смелой, страстной критикой капитализма и наивной, беспомощной, юродивой патриархальной крестьянской точкой зрения, с которой Толстой рассматривает отрицательные явления надвигавшегося на Россию и утвердившегося в ней капитализма.
Предпосылку толстовской критики капитализма образует убеждение Толстого, будто общественные отношения между людьми складываются отнюдь не на основе экономических отношений. «...Такое утверждение, - говорит Толстой, - есть только установка, вместо очевидной и ясной причины явления, одного из его последствий». По Толстому, причина тех или иных экономических условий «всегда была и не может быть ни в чем ином, как только в насилии одних людей над другими; экономические же условия суть последствия насилия и потому никак не могут быть причиной отношений между людьми».
С того времени как возникла борьба между людьми, т. е. противление насилием тому, что каждый из борющихся считал злом, возник и вопрос, следует или не следует противиться злу насилием. Вопрос этот, по Толстому, неустраним и непременно должен быть решен. «...Это - вопрос, самою жизнью поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения».
Условием решения этого вопроса Толстой считает освобождение людей от ряда иллюзий, господствующих над их сознанием. Первая в ряду этих иллюзий состоит, думает Толстой, в вере, будто последовательная смена общественных форм и форм государственного устройства привела к уменьшению существующего в обществе насилия. Несмотря на всю значительность изменений, происшедших в западноевропейском и русском обществе с переходом от крепостнических форм к формам капиталистическим, действительным характером общественных отношений и при капитализме осталось, по Толстому, насилие, насильственное угнетение трудящегося большинства нетрудящимся меньшинством.
Более того. Вся предшествующая история общества была, по Толстому, историей смены различных форм насилия человека над человеком. Менялись только формы, но сущность оставалась та же. «Человечество перепробовало все возможные формы насильственного правления, и везде, от самой усовершенствованной республиканской до самой грубой деспотической, зло остается то же самое и качественно и количественно. Нет произвола главы деспотического правительства, есть линчевание и самоуправство республиканской толпы; нет рабства личного; <...> нет самовластных падишахов, есть самовластные короли, императоры, миллиардеры, министры, партии».
Как бы ни менялись общественные формы, повсюду жизнь общества, утверждает Толстой, представляла до сих пор и представляет в настоящее время картину порабощения большинства меньшинством насильников, захвативших власть над большинством. «Положение нашего христианского мира теперь таково: одна, малая часть людей владеет большей частью земли и огромными богатствами, которые все больше и больше сосредоточиваются в одних руках и употребляются на устройство роскошной, изнеженной, неестественной жизни небольшого числа семей».
Напротив, «другая, большая часть людей, лишенная права и потому возможности свободно пользоваться землей, обременяемая податями, наложенными на все необходимые предметы, задавленная вследствие этого неестественной, нездоровой работой на принадлежащих богачам фабриках, часто не имея ни удобных жилищ, ни одежд, ни здоровой пищи, ни необходимого для умственной, духовной жизни досуга, живет и умирает в зависимости и ненависти к тем, которые, пользуясь их трудом, принуждают их жить так».
Но жизнь современного общества, как полагал Толстой, состоит не только в насилии, которое большинство терпит от меньшинства. Жизнь, кроме того, состоит в непрерывной борьбе меньшинства с большинством и, наоборот, большинства с меньшинством. «И те и другие, - утверждает Толстой, - боятся друг друга, и, когда могут, насилуют, обманывают, грабят и убивают друг друга. Главная доля деятельности и тех и других тратится не на производительный труд, а на борьбу. Борются капиталисты с капиталистами, рабочие с рабочими, капиталисты с рабочими».
Краткое описание
Лев Николаевич Толстой родился 26 августа (9 сентября) 1828 в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии, (ныне музей-усадьба в Тульской области) в одном из самых знатных русских дворянских семейств. Дальний предок Льва Николаевича, Петр Алексеевич Толстой - сподвижник Петра Великого, был жестокий, коварный и властолюбивый вельможа, человек большого государственного ума и огромной силы воли. За заслуги перед царем ему был пожалован графский титул. По материнской линии Лев Николаевич относился к древнему роду князей Волконских. Принадлежность к аристократии на протяжении всей жизни во многом определяла поведение и мысли Толстого. В юности и в зрелые годы он много размышлял об особом призвании старого русского дворянства, хранящего идеалы естественности, личной чести, независимости и свободы. На склоне лет его стало тяготить свое привилегированное положение и бытовой уклад, непохожий на быт трудового, простого народа.
Содержание
1. Биография Л.Н. Толстого
1.1. Детство, отрочество, юность. Севастопольские рассказы 3-5
1.2. Начало литературной деятельности 5-7
1.3. Путешествие по Европе 7-8
1.4. Педагогическая деятельность 8-9
1.5. Религиозные воззрения и отлучение от церкви 9-12
1.6. Последние годы жизни. Смерть 12
2. Взгляды Л.Н. Толстого на государство и право
2.1. Становление общественно-политических взглядов Толстого 13-16
2.2. Отношение Толстого к государству и власти 16-17
2.3. Анархизм и доктрина непротивления злу насилием 17-21
2.4. Взгляд на революцию 21-27
2.5. Проблема патриотизма 27-29
2.6. Л.Н. Толстой и современность 29-31
3. Список использованной литературы 32