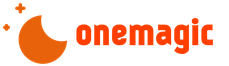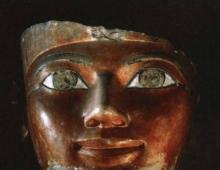Бедная "бедная лиза". Дмитрий Донской и «Бедная Лиза». История Симонова монастыря Оно было каким-то особенным
Чусова М.А.
О Лизином пруде Карамзина писалось немало. Однако ранняя история этого водоема обычно не рассматривалась, а при его описа-нии допускалось много неточностей.
Пруд находился за Камер-Коллежским валом, у дороги, ведущей в деревню Кожухово, на ровном, возвышенном и песчаном месте, был обнесен валом и обсажен березами, никогда не высыхал. В окружнос-ти он составлял около 300 метров, глубина в середине достигала 4 метров. По церковному преданию, которому у нас нет причин не до-верять, пруд был ископан руками первых иноков Симонова монастыря. Последний был основан первоначально в 1370 г. на месте церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове племянником Сергия Радо-нежского Феодором. По преданию, Святой Старец, во время своего пребывания в Москве, останавливался в Симонове. В один из приез-дов вместе с Феодором (который упоминается как создатель водоема наравне с Преподобным) и иноками монастыря ископал пруд недалеко от обители (200 метров южнее Старого Симонова). В память об этом пруд назывался Сергиевским, иногда - Святым. В XIX веке еще было свежо предание о целительной силе его вод. С древних лет в день Преполовения ежегодно выходил сюда настоятель монастыря с крест-ным ходом, при стечении народа, для освящения воды по общему ус-таву .
Вероятно, как издревле монастырский, пруд был оставлен за Симоновым после секуляризации монастырских земель в 1764 году. Архимандрит Гавриил сообщал в 1770 году Духовной консистории, что около пруда, в котором разводят рыбу, находится монастырское под-ворье, огороженное забором, со строениями и кельей для сторожа. К Сергиеву пруду же люди ходят за исцелением уже сто лет до этого времени и более .
В 1797 году Сергиев пруд был обозначен как для рыбной ловли не пригодный .
В 1792 году, приехав из-за границы и набравшись там "вольно-думства", Н.М. Карамзин написал повесть "Бедная Лиза". Он первый указал на красоту этих мест и открыл их публике: "Поезжайте в воскресенье... к Симонову монастырю... везде множество гуляю-щих... Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрест-ностям Москвы и думал с сожалением: "Какие места! и никто не нас-лаждается ими!", а теперь везде нахожу общества" .
Из повести Карамзина выходило, что Лиза жила в Симоновой слободе (70 саженях от монастыря, подле березовой рощицы, среди зеленого луга) и утопилась в пруде в 80 саженях от своей хижины. Пруд этот был глубокий, чистый, "еще в древние времена ископан-ный", находился на дороге, его окружали дубы.
Березовый лес упоминается в примечаниях к планам Генерально-го межевания в даче Симоновой слободы , росли березы и вокруг пруда. Может быть, Карамзин имел в виду Тюфелеву рощу, которая по краю могла состоять из берез, она находилась в полукилометре от слободки. Зеленый луг около Симоновой слободы показан на планах на протяжении XIX века.
Н.Д. Иванчин-Писарев писал о восприятии повести Карамзина: "ни один Писатель, если исключить Руссо, не производил такого сильного действия в Публике. В часы досуга написав сказочку, он всю Столицу обратил к окрестностям Симонова Монастыря. Все тог-дашние светские люди пошли искать Лизиной могилы" . В описании они узнали пруд у дороги. Так Сергиев пруд стал Лизиным, а о его святости стали помнить лишь монахи, богомольцы да жители окрест-ных сел.

Сергиев пруд. Рисунок К.И. Рабуса
Обиделся ли тишайший Старец на Карамзина, но к писателю пришла большая слава, которой, иногда, он был и не рад. Кому-то даже удалось примазаться к ней: повсеместно, упоминая о "Бедной Лизе" и ее восприятии публикой, приводят надпись на одном из де-ревьев у пруда неизвестного автора (во всевозможных вариациях):
Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста!
Топитесь девушки в пруду, всем будет место!
В оправдание того, что Карамзин "не достаточно почтительно изложил" историю монастыря, Иванчин-Писарев говорил, что тогда историограф был еще молод и мечтателен и ничего не знал о святос-ти пруда. Иванчин-Писарев привел и другое название водоема - Ли-сий (об этом ему сообщил один любитель истории) .
Со временем о "Бедной Лизе" стали забывать. В 1830 году од-ному старому поклоннику Карамзина уже на уединенном берегу пруда монах поведал, что когда-то съезжалась сюда вся Москва, искали развалившейся хижины и спрашивали, где жила Лиза .
В 1833 году в "Телескопе" анонимный автор [Н.С. Селивановский, выяснилось позже написания статьи] поведал предания, рассказанные ему столетней старухой (в них есть много правдиво-го), относящиеся, вероятно, к концу XVII - XVIII векам. На ее па-мяти старики рассказывали, что у пруда была гостиница монастырс-кая для странников, с крестом над дверью, там бесплатно останав-ливались паломники, у пруда были дубы высокие (сходится с описа-нием Карамзина), а у стены монастыря сад вишневый (сад показан на плане Генерального межевания). В пруд пускали рыбу "саженую, ме-ченую" (рыбу там действительно разводили в XVIII веке). Берега пруда были огорожены рилями, через пруд на сваях был переход, весь покрытый рамами стекольчатыми. Автор утверждал, что и ныне окрестные поселяне указывают на целительную силу вод пруда и мож-но часто встретить на берегу больную, пришедшую искупаться. "Не забыть мне суеверного рассказа старухи, - писал он, - о чистоте вод его и о горестном ужасе ея, что святыню осквернили злодеи ка-медианщики баснею о душегубице. Так вымыслы поэта отражаются в народе драматически!" Автор застал пруд, полный водой по-прежне-му, засохший дуб и несколько берез, изуродованных надписями. За прудом остатки "гостиницы", которую многие принимали за хижину Лизы. Здесь он нашел деньгу Петра. "Гнездо зелени, взлелеянное тихим трудом иноков, брошено на расхищение и людям и времени" - резюмировал он .
Остатки якобы хижины Лизы упоминаются и в других воспомина-ниях . Они являлись, очевидно, остатками разрушенного под-ворья для сторожи у пруда.
Что касается роскошного перехода, то он мог существовать во времена царя Алексея Михайловича. Последний неоднократно останав-ливался в монастыре, жил там во время постов. Есть также преда-ние, что в Сергиевском пруду для него специально разводили рыбу .
М.Н. Загоскин в 1848 году писал о Лизином пруде, у которого еще росли березы с едва заметными надписями, что он похож более на дождливую лужу.
В 1871 году архимандрит Евстафий утверждал, что Симонов мо-настырь свято чтит традиции и каждый год в день Преполовения нас-тоятель шествует с крестным ходом к Сергиеву пруду, а в последние годы с иконой Сергия Радонежского большого размера. Пруд всегда чист, и местные жители не сваливают туда мусор, а берут из него воду, в пруде водятся караси .
В XIX веке земля около Сергиева пруда (130 саженей) сдава-лась в аренду окрестным крестьянам под огороды, с условием, чтобы содержатели не препятствовали крестному ходу, совершаемому в день Преполовения . В начале XX века эта земля стала объектом жи-лищного строительства разросшейся Симоновой слободы (возникшее поселение носило название Малая Симонова слободка) . Окрестные жители так загрязнили пруд, что для купания он стал уже непригоден.
"Самый храм и ископанный Пр. Сергием пруд, теряются за неук-люжими домами, строители которых преследовали одну цель, как мож-но больше получить выгоды с бедных заводских труженников..." - писал священник церкви на Старом Симонове .

Сергиев пруд. Начало XX века
Менялось время, менялась и история. По воспоминаниям рабочих Симоновки, на пруду, который блестел зимой, как зеркало, и где ребятишки катались на коньках, начинались знаменитые "стенки": жители Симоновой слободы сходились с жителями Лизиной слободки (Кошачьей) на кулачный бой, после которого лед обагрялся кровью .
Лизин пруд из места паломничества поклонников Карамзина стал местом рабочих сходок (да и подпольщики жили тут же рядом), которые здесь были в 1895 и 1905 годах .
После революции Лизин пруд, судя по всему, представлял из себя жалкое зрелище. С.Д. Кржижановский писал: "Я сел на трамвай № 28 и вскоре стоял у черной, зловонной лужи, круглым пятном вда-вившейся в свои косые берега. Это и есть Лизин пруд. Пять, шесть деревянных домиков, повернувшиеся к пруду задом, пакостят прямо в него, заваливая его нечистотами. Я повернул круто спину и пошел: нет-нет, скорей назад, в страну Нетов" .
Пруд, по рассказу старожила, засыпали в начале 30-х годов XX века, в конце 1970-х годов на его месте стали возводить административное здание завода "Динамо". Удалось найти и новые факты. Оказывается, водоем существовал еще в 1932 году, когда на его берегу уже высилось здание ФЗУ. В это время вода в нем была чистая, питали его ключи, а засыпали с трудом. Так что рабочий С. Бондарев выдвинул предложение сохранить Лизин пруд. «Все жители Ленинской слободы, хорошо знают Лизин пруд, - писал он в газете «Мотор», - кото-рый недавно еще был хорошим источником. В нем ребята купались и приходили к нему дышать свежим воздухов. В 1930 году от Пролетарс-кого райсовета было дано распоряжение окончательно засыпать Лизин пруд. Но так как этот пруд проточный, то его три года засыпают, а засыпать никак не могут. Сейчас пруд полностью заполнен чистой, прозрачной водой, выходящей даже из берегов. Пруд имеет водонос-ные ключи, из которых не переставая идет холодная, совершенно пригодная для питья вода, поэтому засыпать его невозможно. Если же его сохранить, в нем можно разводить рыбу и купаться. Я пред-лагаю сохранить Лизин пруд, превратив его в место для купания. Для этого следует провести следующие мероприятия: почистить от грязи и укрепить берега. Инициаторами этого дела должны быть уча-щиеся нашего ФЗУ, потому что здание ФЗУ стоит на берегу пруда, и им в первую очередь будут пользоваться фабзавученики.» Какая реакция последовала на статью - неизвестно. Пруд все-таки засыпали .

План ФЗУ. 1930 год

ПТУ "Динамо" (ФЗУ). Это здание еще помнило Лизин пруд. Но его тоже теперь нет.
Кроме Лизина пруда были: Лизин тупик, ведущий к пруду, Лизи-на слободка вблизи, Лизинская железнодорожная ветка с товарной станицей "Лизино", Лизина площадь (с юга от Лизина пруда, между прудом и железнодорожной веткой).
И здесь все казалось бы ясно. Но во второй половине XIX ве-ка, когда память начала уже ослабевать, появилось желание изме-нить историю. Хотелось, чтобы Сергиев пруд не был Лизиным. Архи-мандрит Евстафий, выпустивший несколько брошюр о Симонове монас-тыре, написал, что монастырь был основан близ урочища, именуемого летописцем (неизвестно каким) Медвежье озерко, или Лисий пруд. Это озерко, по его словам, поселянами было переименовано в даль-нейшем в Постылое как уже болотистое. Евстафий просил не путать Сергиева пруда с Медвежьим озерком. По созвучию получалось, что Лисий пруд это и есть Лизин .
Итак, некоторые стали считать, что существуют Сергиев пруд и Медвежье озерко, или Лисий пруд, который стал Лизиным . Это заблуждение перекочевало в XX век, его стали повторять некоторые исследователи творчества Карамзина .
Какой же все-таки пруд был описан Карамзиным, где находился Сергиев пруд и какой пруд назывался Лизиным?
Озеро Постылое находилось в 2 км от монастыря, за Тюфелевой рощей, были там и другие озера. Они явно не подходят под описание пруда Карамзина: у него пруд находился в 80 саженях от Лизиной хижины, был в древние времена ископан (озера являлись природными водоемами). Название Медвежье озеро среди местных топонимов обна-ружить не удалось . Непонятно, откуда Евстафий его взял. У Пассека и Иванчина-Писарева, например, об этом ничего не сказано, а последний определенно указывал, что Лисий - это второе название Сергиева пруда. Не ошибся ли архимандрит? Дело в том, что еще в конце XIV века Симоновым монастырем был основан небольшой монас-тырек Спаса Преображения у Медвежьих озер (находятся ныне в Щел-ковском районе). Его название Евстафий мог принять за название Симонова монастыря.
В окрестностях Симонова был еще один пруд, находившийся под горою монастыря (не показан на плане Генерального межевания), "вырытый наподобие круглого бассейна", он упоминается в монас-тырских документах как объект сдачи в аренду. Его можно видеть на гравюрах XIX века . Но этот пруд также не подходит под пруд Карамзина: он находился не у дороги и не был окружен столетними дубами, да и вообще деревьями.
Остается только Сергиев пруд, который однозначно определен: он упоминается в монастырских документах XVIII-XX веков, обозна-чен на плане Генерального межевания (без названия), иллюстрирован к историческому описанию Пассека.
Лизин же пруд (вернее, тот, который публика обозвала Лизи-ным) обозначен на планах там же, где находился Сергиев пруд. К тому же, о таком переименовании монастырского пруда не раз упоми-налось современниками. Да и крестный ход, по воспоминаниям рабо-чих, был именно к Лизиному пруду .
Да и сам писатель признался: "Близ Симонова есть пруд, осе-ненный деревьями и заросший. Двадцать пять лет пред сим сочинил я там Бедную Лизу - сказку весьма незамысловатую, но столь щастли-вую для молодого автора, что тысяча любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных" .
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Пассек В.В. Историческое описание московского Симонова монастыря. М., 1843. С. 6-7, 34
2. Скворцов Н.А. Материалы по Москве и Московской епархии за
XVIII век. М., 1912. Вып. 2. С.457.
3. ЦИАМ, ф. 420, оп. 1, д. 10, л. 6 об.- 7.
4. Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя. М.,
1988. С. 261.
5. РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 775, л. 34.
6. Литературный музеум на 1827 год. М., 1827. С.143-144.
7. Иванчин-Писарев Н.Д. Вечер в Симонове. М., 1840. С. 54-55, 74.
8. Дамский журнал. 1830. № 24. С. 165-166.
9. Телескоп. 1833. №2. С. 252-257.
10. Русский вестник. 1875. №5. С. 125; Переписка А.Х. Востоко-ва в повременном порядке. СПб., 1873. С.VIII.
11. Шамаро А. Действие происходит в Москве. М., 1979. С. 22.
12. Загоскин М.Н. Москва и москвичи. М., 1848. Т. 3. С. 266.
13. Московские епархиальные ведомости. 1871. №8. С. 79.
14. ЦИАМ, ф. 420, д. 369, л. 1-5.
15. ЦИАМ, ф. 420, Д. 870-875.
16. Остроумов И.В. Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Ста-ром Симонове. М., 1912. С. 89.
17. ЦМАМ. Ф. 415, оп. 16, д. 142, л.1-2.
18. По революционной Москве. М., 1926. С. 214-215; История завода "Динамо". М., 1961. Т.1. С. 17, 41, 46.
19. Кржижановский С.Д. Воспоминание о будущем. Сборник. М.,
1989. С. 395.
20. Шамаро А. Указ. соч. С. 24: Мотор. 1932. № 140. С. 4.
21. Евстафий. Московский мужской ставропигиальный Симонов мо-настырь. М., 1867. С. 3, 4, 12.
22. Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1996. С.349,
351.
23. Топоров В.Н. Бедная Лиза Карамзина. Опыт прочтения. М.,
1995. С. 107; Зорин А.Л. Немзер А.С. Парадоксы чувстви-тельности // "Столетья не сотрут" М., 1989. С. 12.
24. Чусова М.А. Тюфелева роща в Москве // Московский журнал.
2001. № 9. С. 48-49.
25. Пассек В.В. Указ. соч. С. 66; ЦИАМ, ф. 420, д.1175, л.
4; д 1191, л. 10.
26. Шипилин Л.В. Большевистский путь борьбы и побед. М.,
1933. С. 11.
27. Карамзин Н.М. Записка о достопамятностях Москвы // Моск-ва в описаниях XVIII века. М., 1997. С.294.
«Борис Годунов Карамзин» - Н.М.Карамзин «История государства Российского» (1803 – 1826 гг.). История России. Во внешней политике Борис Годунов проявил себя как талантливый дипломат». «Царствование Бориса Годунова ознаменовалось начавшимся сближением России и Запада. Школьная энциклопедия «Руссика». Авторы: Иванова Катя и Гордеева Алена.
«Николай Карамзин» - Знал церковно-славянский, французский, немецкий языки. Александр Семенович Шишков Общество «Беседа любителей российского слова». Николай Михайлович Карамзин. В 1783 появилось первое печатное произведение Карамзина - “Деревянная нога”. Отец – отставной капитан. (1766-1826) подготовила учитель русского языка и литературы Тараканова Н.Г. МОУ СОШ №8 г.Кстово.
«Сентиментализм Карамзин» - Влияние кружка продолжалось 4 года (1785 - 88). Биография Н.М. Карамзина. Кто мог любить так странно, Как я любил тебя? Содержание. Но я вздыхал напрасно, Томил, крушил себя! Сентиментализм как литературное направление. И не знатному вельможе, не государственному деятелю или полководству, а литератору – Н.М.Карамзин.
«Карамзин Николай Михайлович» - Н.М.Карамзин. Знал церковно-славянский, французский, немецкий языки. В 1845 году в Симбирске был установлен памятник Николаю Михайловичу. До последнего дня жизни Карамзин был занят писанием «Истории государства Российского». Отец – отставной капитан. Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Родился 1 декабря близ Симбирска.
«Карамзин Бедная Лиза» - Обманутое доверие. Трудолюбивая. Ах!...». Повесть написана в 1792 году. Какие образы, взятые из природы, характеризуют героев повести? Главные вопросы повести. Радостная душа. Любезная. Робкая. Легкомыслие Эраста. Значение Симонова монастыря в повести «Бедная Лиза». Измена Эраста. Причины самоубийства Лизы.
«Бедная Лиза» - Светское воспитание Московский пансион. Военная служба, Преображенский полк. «… И крестьянки любить умеют!». Бедная Лиза. Эпиграф к уроку: Идиллия. Н.М.Карамзин – журналист, писатель, историк. А.Н. Радищев Н.М.Карамзин «Путешествие из «Бедная Лиза» Петербурга в Москву» (гл. «Едрово»). Путешествие по Европе- 1789 -1790 г.
Всего в теме 8 презентаций
История московских литературных урочищ берет свое начало с момента возникновения полноценной субъективной прозы, то есть с «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина (1792). В основе акта создания такого рода повествования лежит подробное описание субъективного переживания, в том числе переживания полюбившихся мест и «милых сердцу» временных фрагментов - пор дня и времен года. Сентиментальную героиню необходимо было поселить в таком месте, которое волновало бы воображение автора и надолго запомнилось бы будущему читателю - нечто подобное деревушке Кларан на берегу Женевского озера, где по воле Жана Жака Руссо суждено было жить нежной Юлии и страстному Сен-Прё.
Карамзин выбрал окрестности Симонова монастыря не случайно: оно было овеяно легендами. Писатель с молодых лет интересовался древней Москвой и читал анонимные «Повести о начале Москвы», написанные во второй половине XVII века, в которых среди различных вариантов расположения сел боярина Кучки было названо и Симоново. Таким образом, это место косвенно связывалось со строительной жертвой, предшествовавшей основанию будущей столицы. Легенды связывали Симоново и с иными важными событиями русской истории. Так, например, считалось, что преподобный Сергий Радонежский, основавший в 1370 году Симонов монастырь, собственноручно вырыл вблизи монастырских стен небольшой пруд, долгое время называвшийся Лисиным. Тут же, совсем неподалеку, были похоронены герои Куликовской битвы - Пересвет и Ослябя, монахи монастыря Святой Троицы. Так это было или не так на самом деле, в сущности, никто не знал, но именно потому это место было овеяно атмосферой повышенной важности, эмоциональности и загадочности; оно источало урок - воздействие могущественных сил исторической судьбы.
Однако историческая память и связанные с нею легенды, которые «хранит» урочище, сами по себе недостаточны. Работе воображения должна прийти на помощь природа - свойства тамошнего ландшафта. И за этим дело не стало: в Симонове было красиво. Монастырь стоит на высоком берегу Москва-реки, откуда и сейчас открывается величественная панорама южной части города, от Донского монастыря и Воробьевых гор до Кремля; во времена Карамзина был виден также деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Для читателя, сочувствовавшего «сентиментальному» повествователю и глубоко переживавшего легендарно-исторические ассоциации, чрезвычайно важным являлось признание повествователя в том, что он любит там гулять и общаться с природой: «Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою» ( , 591).
В конце XVIII века Симоново находилось на значительном расстоянии от города, среди заливных лугов, полей и рощ. Москву было оттуда видно очень хорошо, но она красовалась в отдалении - живая история в обрамлении вечной природы. Карамзинское описание, предваряющее действие повести - сначала «величественный амфитеатр» города, окрестных сел и монастырей в косых лучах заходящего солнца ( . Локус обладает не только топографической, но и во многих случаях также жанровой определенностью, которая задается социальной и культурной предназначенностью: в храме люди молятся, в парикмахерской бреются, а в кафе пьют кофе с пирожными и сплетничают. С другой стороны, городское урочище может представлять собой топос ), а затем плавный переход от панорамы города и природы к панораме истории. Роль связующего звена между космическими и культурно-историческими стихиями выполняет образ осенних ветров, веющих в стенах монастыря меж «мрачных готических башен» и надгробных камней. Приведенный ниже фрагмент великолепно демонстрирует искусство писателя, который, мастерски манипулируя чувствами читателя, нагнетает настроения, связанные с переживанием места необыкновенного, печального и величественного - и только тогда переходит к изображению судьбы бедной девушки. Не забудем, что согласно убеждениям гуманистов и просветителей XVIII века именно конкретная человеческая личность - венец природы и конечная цель истории. «Часто прихожу я на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокой травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробовых камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, - стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, - печальные картины! <…> Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, - там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Всё сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, От одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» ( , 591–592).
Вышеупомянутые настроения «нежной скорби» Карамзин использовал со свойственным ему талантом. Он «утопил» героиню в Лисином пруду. После выхода повести в свет этот пруд незамедлительно стал местом паломничества москвичей, приходивших сюда поплакать над горькой судьбою бедной Лизы. На старинных гравюрах тех лет сохранились тексты «чувствительных» надписей на разных языках, которые москвичи вырезали на деревьях, росших вокруг пруда, который устная молва переименовала из Лисиного в Лизин, например: «В струях сих бедная скончала Лиза дни; / Коль ты чувствителен, прохожий! воздохни»; или: «Утопла лиза здесь Эрастова невеста. / Топитесь девушки для всех вас будет место» (цит. по: , 362–363). Симоновский локус приобрел репутацию места несчастной любви. Но мало кто из «паломников» осознавал глубинную поэтическую связь этого образа с куда более сложным образом русской истории, а точнее, истории Москвы. Преподобного Сергия, стоявшего у истоков великого будущего Москвы, и «бедную» Лизу связывало Симоново урочище как особый источник и катализатор поэтичности, locus poesiae ( , 107–113). Однако урок этого места подействовал даже на власть предержавших: во время написания «Бедной Лизы» Симонов монастырь был закрыт по воле Екатерины II, пытавшейся проводить политику секуляризации (поэтому в «Бедной Лизе» монастырь «опустевший», а кельи пустые), но в 1795 году, в разгар популярности Симонова, его вновь пришлось открыть.
Симоновское урочище активно воздействовало на умы и сердца сравнительно недолго - пока жило карамзинское поколение. Уже в пушкинские времена наступает семантическая дезактуализация этого места, и память о нем постепенно угасает. Любопытно, что Лизин пруд как место гибели карамзинской героини упомянут еще в путеводителе 1938 года ( , 122–123), когда Симонова слобода называлась Ленинской (а посреди Ленинской слободы всё еще существовала Лизина площадь!), но к середине 1970-х годов литературному следопыту Александру Шамаро пришлось немало потрудиться, чтобы выяснить, куда и когда именно «исчез» пруд, на месте которого вырос административный корпус завода «Динамо» ( , 11–13).
Примечания:
Герштейн Э. Дуэль Лермонтова с Барантом // Литературное наследство. 1948. № 45–46 (М.Ю. Лермонтов, II). С. 389–432.
Карамзин Н.М. Бедная Лиза // Русская проза XVIII века. М.: Художественная литература, 1971. С. 589–605.
Осмотр Москвы: Путеводитель. М.: Московский рабочий, 1938.
Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения: К двухсотлетию со дня выхода в свет. М.: Издательский центр Российского гос. гум. ун-та.
Шамаро А. Действие происходит в Москве: Литературная топография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Московский рабочий, 1988.
Моя собеседница - научный руководитель Государственного музея А.С. Пушкина Наталья Ивановна Михайлова.
Что вам ближе всего у Карамзина?
Наталья Михайлова: Может, это покажется странным, но я очень люблю "Бедную Лизу". Это прекрасная проза. Хорошо помню свое первое, еще школьное, впечатление от этой повести.
Именно "Бедной Лизе", а не карамзинской "Истории государства Российского" вы посвятили открывшуюся не так давно выставку...
Наталья Михайлова: Мы вовсе не противопоставляем эти два шедевра. Просто "Бедной Лизе" в этом году - 225 лет. Ее выход в свет принес 25-летнему Карамзину первый большой успех. И что еще важно: "Бедная Лиза" - это ведь тоже история, тоже осознание самих себя, своей души, только не через историю государства, а через личную трагедию. Не случайно же "Бедная Лиза" остается в нашем круге чтения и в ХХI веке.
Неужели вы надеетесь, что "Бедная Лиза" тронет современную девушку?
Наталья Михайлова: Я думаю, что если ей что-то объяснить, то непременно тронет. Вот для этого и нужны исследователи...
И что бы вы сказали девочке, которая думает, читать ей "Бедную Лизу" или зависнуть в социальных сетях?
Наталья Михайлова: Милое дитя! - сказала бы я. - Больше двух веков назад произошла эта история. Произошла она в Москве, близ Симонова монастыря. Его башни ты обязательно заметишь, если приедешь в столицу и выйдешь на станции метро "Автозаводская"...
А на башне увидишь памятную табличку "Близ этих стен жила бедная Лиза, героиня повести Карамзина"...
Наталья Михайлова: Такой таблички на Симоновом монастыре мы не найдем. И не знаю, нужна ли она. А вот скульптурную группу я бы поставила. Чтобы вновь у Симонова монастыря можно было увидеть Лизу и Эраста. К ним бы приходили влюбленные. Вспоминаю мультфильм "Бедная Лиза", снятый еще в 1978 году, там музыка Алексея Рыбникова и невероятно выразительные куклы Нины Виноградовой. А поставила фильм режиссер Идея Николаевна Гаранина. Там нет ни одного слова, но, на мой взгляд, это одна из самых выдающихся экранизаций литературного произведения.
Вернемся к башням Симонова монастыря и девочке, которая думает, читать или не читать "Бедную Лизу"...
Наталья Михайлова: Что ж, продолжу разговор с моей воображаемой собеседницей... А между тем, милое дитя, близ этих башен Симонова монастыря в конце восемнадцатого века часто можно было увидеть писателя Николая Михайловича Карамзина. Он сочинял стихи, повести, а потом стал историографом и написал "Историю государства Российского". А к Симонову монастырю он переплывал с друзьями на лодке через Москву-реку. Они проводили здесь целые дни. Был поблизости и пруд, рядом с которым жила девушка Лиза. Жаль, пруда этого давно нет, и мы даже точно не знаем, где он был. Чтобы понять весь драматизм сюжета "Бедной Лизы", важно знать, что в ту пору были крепостные крестьяне и дворяне. Между ними была пропасть, и вот два человека, которых эта огромная пропасть разделяла - девушка-крестьянка и юноша-дворянин, - они полюбили друг друга. А что было дальше - прочти, пожалуйста, сама. Ведь пересказать гениальное произведение невозможно. "Бедная Лиза" поможет тебе иначе взглянуть на людей вокруг себя. А еще я бы пригласила тебя на выставку "Лиза и ландыши", которая проходит в нашем музее. Там ты увидишь и тот анимационный фильм, о котором я рассказывала, и первое издание "Бедной Лизы"...
Оно было каким-то особенным?
Наталья Михайлова: Да, это в чем-то таинственное издание, и оно больше никогда не воспроизводилось. Изучая его, можно сделать любопытные находки. Одна такая находка связана с поэтом Василием Львовичем Пушкиным - дядей Александра Сергеевича.
В 1818 году Василий Львович пишет Вяземскому: "Мы ездили в Симонов монастырь, были у всенощной, гуляли по берегу Москвы-реки, видели пруд, где Бедная Лиза кончила жизнь свою, и я нашел собственной руки моей надпись, которую я начертил лет двадцать, а может, и более назад: Non la conobbe il mondo mentre l ebbe; Conobbil io, ch a pianger qui rimasi".
"Лет двадцать, а может, и более назад" - это как раз то время, когда после публикации повести Карамзина в "Московском журнале" многие москвичи ездили на место действия "Бедной Лизы". Тогда Василий Львович и оставил две строки на березе, вырезав на коре строки из Петрарки, из 338-го сонета "На смерть Мадонны Лауры". В переводе они звучат так: "Ее не знал мир, пока имел ее; Я знал ее, а теперь мне осталось только оплакивать".
В 1796 году, когда вышло первое отдельное издание "Бедной Лизы", оно сопровождалось гравюрой, изображающей и Симонов монастырь, и пруд, и там же воспроизведены некоторые надписи на березах. Одна из них, та самая строчка из Петрарки, стала эпиграфом к повести!
Интересно, ведал ли Карамзин, что эту надпись вырезал на дереве именно Василий Львович?
Наталья Михайлова: Пока я не могу это утверждать. Как неизвестно, знал ли Василий Львович о том, что цитата из Петрарки перекочевала с березы в "Бедную Лизу" с его легкой руки. И все-таки главное нам уже открылось: своей надписью из Петрарки, вырезанной на березе, Василий Львович Пушкин включил "Бедную Лизу" в контекст мировой культуры, ведь две строки из Петрарки являются и эпиграфом к роману Жан Жака Руссо "Юлия, или Новая Элоиза". И теперь встают в один ряд: Петрарка, Руссо и Карамзин. На мой взгляд, это очень интересно...
И мне интересно, но как сделать так, чтобы все это было интересно и тем ребятам, которые проходят "Бедную Лизу" в девятом классе?
Наталья Михайлова: Здесь велика роль историков литературы. Они должны писать не только для своих собратьев по научному цеху, но и для современного читателя. И многое зависит от учителя.
Разговоры на уроках о чувствах, похоже, остались в 1970-х. Учитель так перегружен отчетностью, что у него просто не остается времени на то, чтобы выслушать ребят, поспорить с ними или вместе отправиться на поиски Лизиного пруда...
Наталья Михайлова: Эта система директивно заданных рамок абсолютно губительна именно для преподавания литературы. Если нет радости, то остается один прагматизм: "Зачем мы пойдем в музей, если это не поможет нам сдать ЕГЭ? А зачем я буду читать книгу?.." В результате мы получаем поколения, которые не могут высказать свою мысль ни письменно, ни устно.
Чувствительность сегодня понимается как слабость.
Наталья Михайлова: Чувствительность в эпоху Карамзина и Пушкина - это способность к высоким чувствам, нежность в любви, верность в дружбе, отзывчивость на чужое горе, это восприимчивость к оттенкам чувств, к сложности человеческих отношений...
Продолжение Карамзинских бесед читайте в одном из ближайших номеров "РГ-Недели"
Из досье "РГ"
Наталья Ивановна Михайлова - научный руководитель Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук, академик РАО, лауреат Государственной премии, руководитель издательского проекта "Онегинская энциклопедия", лауреат премии журнала "Наше наследие" им. А. Блока. Автор многих книг, а также пушкинских экспозиций и выставок.
Государственный музей А.С. Пушкина расположен в Москве по адресу: Пречистенка, 12/2. Проезд до станции "Кропоткинская". Музей открыт с 11.00 до 19.00, по четвергам с 12.00 до 21.00. Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно. Выходной день: понедельник. Выставка "Лиза и ландыши" будет открыта до конца сентября.
Да простит читатель столь обширную выписку, но в данном случае она, как мне кажется, совершенно необходима. На мой взгляд, в настоящее время не существует более совершенного в методологическом отношении и более удачного объяснения органической связи реальной - и материально, и духовно (гуманитарно) осуществляющейся жизни, с одной стороны, устного и «книжного» слоя культурной традиции, с другой, и поэтического образа, с третьей. Пристальный взгляд выдающегося ученого не пренебрег ничем: ни природными, ни физиологическими, ни социальными детерминантами, ни смысловыми и, более того, идеальными, символическими, мифопоэтическими параметрами, зачастую отсылающими нас очень далеко, к метафизическим или даже трансцендентным представлениям. Такова окружающая нас природа, таков человек и таково его творчество.
Настоящая статья содержит в себе обзор некоторых московских литературных урочищ в хронологической последовательности. При этом я попытаюсь ответить на вопрос, почему именно эти, а не какие-либо другие районы, кварталы или уголки города были выбраны устной молвой и творческим воображением художников слова в качестве loci poesiae , в чем заключалась причина их мифотворческой и поэтической потенции.
Симоново
История московских литературных урочищ берет свое начало с момента возникновения полноценной субъективной прозы, то есть с «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина (1792). В основе акта создания такого рода повествования лежит подробное описание субъективного переживания, в том числе переживания полюбившихся мест и «милых сердцу» временных фрагментов - пор дня и времен года. Сентиментальную героиню необходимо было поселить в таком месте, которое волновало бы воображение автора и надолго запомнилось бы будущему читателю - нечто подобное деревушке Кларан на берегу Женевского озера, где по воле Жана Жака Руссо суждено было жить нежной Юлии и страстному Сен-Прё.
Карамзин выбрал окрестности Симонова монастыря не случайно: оно было овеяно легендами. Писатель с молодых лет интересовался древней Москвой и читал анонимные «Повести о начале Москвы», написанные во второй половине XVII века, в которых среди различных вариантов расположения сел боярина Кучки было названо и Симоново. Таким образом, это место косвенно связывалось со строительной жертвой, предшествовавшей основанию будущей столицы. Легенды связывали Симоново и с иными важными событиями русской истории. Так, например, считалось, что преподобный Сергий Радонежский, основавший в 1370 году Симонов монастырь, собственноручно вырыл вблизи монастырских стен небольшой пруд, долгое время называвшийся Лисиным. Тут же, совсем неподалеку, были похоронены герои Куликовской битвы - Пересвет и Ослябя, монахи монастыря Святой Троицы. Так это было или не так на самом деле, в сущности, никто не знал, но именно потому это место было овеяно атмосферой повышенной важности, эмоциональности и загадочности; оно источало урок - воздействие могущественных сил исторической судьбы.
Однако историческая память и связанные с нею легенды, которые «хранит» урочище, сами по себе недостаточны. Работе воображения должна прийти на помощь природа - свойства тамошнего ландшафта. И за этим дело не стало: в Симонове было красиво. Монастырь стоит на высоком берегу Москва-реки, откуда и сейчас открывается величественная панорама южной части города, от Донского монастыря и Воробьевых гор до Кремля; во времена Карамзина был виден также деревянный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Для читателя, сочувствовавшего «сентиментальному» повествователю и глубоко переживавшего легендарно-исторические ассоциации, чрезвычайно важным являлось признание повествователя в том, что он любит там гулять и общаться с природой: «Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою» (4, 591).
В конце XVIII века Симоново находилось на значительном расстоянии от города, среди заливных лугов, полей и рощ. Москву было оттуда видно очень хорошо, но она красовалась в отдалении - живая история в обрамлении вечной природы. Карамзинское описание, предваряющее действие повести - сначала «величественный амфитеатр» города, окрестных сел и монастырей в косых лучах заходящего солнца (См. Примечание 6), а затем плавный переход от панорамы города и природы к панораме истории. Роль связующего звена между космическими и культурно-историческими стихиями выполняет образ осенних ветров, веющих в стенах монастыря меж «мрачных готических башен» и надгробных камней. Приведенный ниже фрагмент великолепно демонстрирует искусство писателя, который, мастерски манипулируя чувствами читателя, нагнетает настроения, связанные с переживанием места необыкновенного, печального и величественного - и только тогда переходит к изображению судьбы бедной девушки. Не забудем, что согласно убеждениям гуманистов и просветителей XVIII века именно конкретная человеческая личность - венец природы и конечная цель истории. «Часто прихожу я на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокой травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробовых камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, - стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, - печальные картины! <…> Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, - там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Всё сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, От одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Си * нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» (4, 591–592).
Вышеупомянутые настроения «нежной скорби» Карамзин использовал со свойственным ему талантом. Он «утопил» героиню в Лисином пруду. После выхода повести в свет этот пруд незамедлительно стал местом паломничества москвичей, приходивших сюда поплакать над горькой судьбою бедной Лизы. На старинных гравюрах тех лет сохранились тексты «чувствительных» надписей на разных языках, которые москвичи вырезали на деревьях, росших вокруг пруда, который устная молва переименовала из Лисиного в Лизин, например: «В струях сих бедная скончала Лиза дни; / Коль ты чувствителен, прохожий! воздохни»; или: «Утопла лиза здесь Эрастова невеста. / Топитесь девушки для всех вас будет место» (цит. по: 10, 362–363). Симоновский локус приобрел репутацию места несчастной любви. Но мало кто из «паломников» осознавал глубинную поэтическую связь этого образа с куда более сложным образом русской истории, а точнее, истории Москвы. Преподобного Сергия, стоявшего у истоков великого будущего Москвы, и «бедную» Лизу связывало Симоново урочище как особый источник и катализатор поэтичности, locus poesiae (10, 107–113). Однако урок этого места подействовал даже на власть предержавших: во время написания «Бедной Лизы» Симонов монастырь был закрыт по воле Екатерины II, пытавшейся проводить политику секуляризации (поэтому в «Бедной Лизе» монастырь «опустевший», а кельи пустые), но в 1795 году, в разгар популярности Симонова, его вновь пришлось открыть.
Симоновское урочище активно воздействовало на умы и сердца сравнительно недолго - пока жило карамзинское поколение. Уже в пушкинские времена наступает семантическая дезактуализация этого места, и память о нем постепенно угасает. Любопытно, что Лизин пруд как место гибели карамзинской героини упомянут еще в путеводителе 1938 года (5, 122–123), когда Симонова слобода называлась Ленинской (а посреди Ленинской слободы всё еще существовала Лизина площадь!), но к середине 1970-х годов литературному следопыту Александру Шамаро пришлось немало потрудиться, чтобы выяснить, куда и когда именно «исчез» пруд, на месте которого вырос административный корпус завода «Динамо» (12, 11–13).